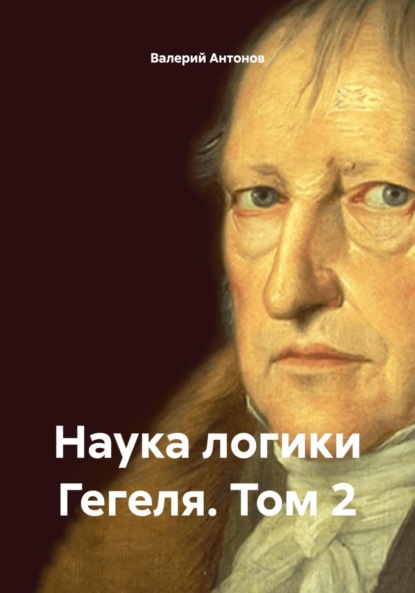
Полная версия:
Наука логики Гегеля. Том 2
Относительно самого дела, во-первых, следует заметить, что формы созерцания, представления и подобные принадлежат самосознательному духу, который как таковой не рассматривается в логической науке. Чистые определения бытия, сущности и понятия, конечно, составляют основу и внутренний простой каркас форм духа; дух как созерцающий, равно как и чувственное сознание, находится в определённости непосредственного бытия, тогда как дух как представляющий, а также воспринимающее сознание поднялись от бытия на ступень сущности или рефлексии. Однако эти конкретные формы так же мало касаются логической науки, как и конкретные формы, которые логические определения принимают в природе и которые были бы пространством и временем, затем наполненным пространством и временем как неорганической природой, и органической природой. Равным образом и здесь понятие следует рассматривать не как акт самосознательного рассудка, не как субъективный рассудок, а как понятие в себе и для себя, которое составляет ступень как природы, так и духа. Жизнь, или органическая природа, – это та ступень природы, на которой выступает понятие; но как слепое, не схватывающее себя, то есть не мыслящее понятие; как таковое оно принадлежит только духу. От этой недуховной, равно как и от этой духовной формы понятия его логическая форма независима; об этом уже было сделано необходимое предварительное замечание во введении; это значение, которое не нуждается в оправдании внутри логики, но с которым нужно быть ясным до неё.
Как бы ни были устроены формы, предшествующие понятию, во-вторых, важно отношение, в котором понятие мыслится к ним. Это отношение принимается как в обычном психологическом представлении, так и в кантовской трансцендентальной философии таким, что эмпирический материал, многообразие созерцания и представления сначала существуют сами по себе, а затем рассудок привносит в них единство и возводит их через абстракцию в форму всеобщности. Рассудок оказывается таким образом пустой формой, которая, с одной стороны, получает реальность только через данный ей материал, а с другой – абстрагируется от него, то есть оставляет его как нечто, но лишь как непригодное для понятия. Понятие в обоих случаях не является независимым, не является существенным и истинным по отношению к предшествующему материалу, который, напротив, есть реальность в себе и для себя, не извлекаемая из понятия.
Конечно, следует признать, что понятие как таковое ещё не совершенно, но должно возвыситься в идею, которая и есть единство понятия и реальности, как это должно выясниться в ходе рассмотрения природы самого понятия. Ибо реальность, которую оно себе даёт, не должна приниматься как нечто внешнее, но должна выводиться из него самого согласно научному требованию. Однако, несомненно, не тот материал, данный через созерцание и представление, может считаться реальным в противоположность понятию. «Это всего лишь понятие», – обычно говорят, противопоставляя не только идее, но и чувственному, пространственно-временному, осязаемому существованию нечто, что было бы превосходнее понятия. Абстрактное считается тогда менее значительным, чем конкретное, потому что из него опущено так много подобного материала. Абстрагирование в этом мнении имеет значение, что из конкретного для нашей субъективной надобности выделяется то или иное свойство, так что при опущении многих других свойств и качеств объекта у него не отнимается ничего в его ценности и достоинстве; они остаются как реальное, просто находящееся по ту сторону, всё ещё полностью значимыми; так что это лишь неспособность рассудка воспринять такое богатство и вынужденность довольствоваться скудной абстракцией. Если же данный материал созерцания и многообразие представления принимаются как реальное в противоположность мыслимому и понятию, то это взгляд, от которого необходимо отказаться не только как от условия философствования, но который уже предполагается религией; ибо как возможно её потребность и смысл, если мимолётное и поверхностное явление чувственного и единичного всё ещё считается истинным? Философия же даёт осмысленное понимание того, что представляет собой реальность чувственного бытия, и предпосылает те ступени чувства и созерцания, чувственного сознания и т. д. рассудку лишь постольку, поскольку они в его становлении являются его условиями, но только так, что понятие возникает из их диалектики и истинности как их основа, а не так, что оно обусловлено их реальностью. Абстрагирующее мышление поэтому не следует рассматривать как простое отодвигание чувственного материала в сторону, который от этого не теряет своей реальности, но, напротив, как снятие и редукцию его как простого явления к существенному, которое проявляется только в понятии.
Если же то, что должно войти в понятие из конкретного явления, служит лишь как признак или знак, то это, конечно, может быть и какой-нибудь только чувственной единичной определённостью объекта, которая выбрана из других по какому-нибудь внешнему интересу и одинакова по роду и природе с остальными.
Главное недоразумение, господствующее здесь, состоит в том, что естественное начало, или то, с чего начинается естественное развитие или история формирующегося индивида, считается истинным и первым в понятии. Созерцание или бытие, конечно, по природе первое или условие для понятия, но они не есть поэтому безусловное в себе и для себя; в понятии, напротив, снимается их реальность, а вместе с ней и видимость, будто они были обусловливающим реальным. Если речь идёт не об истине, а лишь об истории, о том, как происходит в представлении и являющемся мышлении, то можно, конечно, остановиться на рассказе, что мы начинаем с чувств и созерцаний, а рассудок извлекает из их многообразия всеобщность или абстрактное, и понятно, что та основа для этого необходима, которая при этом абстрагировании остаётся в представлении во всей реальности, с которой она сначала являлась. Но философия не должна быть рассказом о происходящем, а познанием того, что в нём истинно, и из истинного она должна далее постигать то, что в рассказе является как простое происшествие.
Если в поверхностном представлении о том, что такое понятие, всё многообразие находится вне понятия, а ему присуща лишь форма абстрактной всеобщности или пустой рефлексивной тождественности, то уже здесь можно напомнить, что и в других случаях для указания понятия или его определения, помимо рода (который сам по себе уже не является чисто абстрактной всеобщностью), также прямо требуется специфическая определённость. Если бы с некоторой долей вдумчивости задумались о том, что это означает, то стало бы ясно, что различение рассматривается здесь как столь же существенный момент понятия. Кант ввёл это рассмотрение через чрезвычайно важную мысль о существовании синтетических суждений a priori. Эта изначальная синтез апперцепции – один из глубочайших принципов спекулятивного развития; она содержит начало истинного постижения природы понятия и полностью противопоставлена той пустой тождественности или абстрактной всеобщности, которая не является синтезом.
Однако дальнейшее развитие этого начала не соответствует ему. Уже само выражение «синтез» легко возвращает к представлению о внешнем единстве и простом соединении того, что изначально и по себе разъединено. В результате кантовская философия остановилась на психологическом отражении понятия и вернулась к утверждению постоянной обусловленности понятия многообразием созерцания. Она объявила рассудочные познания и опыт являющимся содержанием не потому, что категории сами по себе конечны, а на основании психологического идеализма – потому что они суть лишь определения, происходящие из самосознания. Сюда же относится и то, что понятие, несмотря на его априорный синтез, якобы лишено содержания и пусто без многообразия созерцания; тогда как, будучи синтезом, оно уже содержит в себе определённость и различие.
Поскольку эта определённость понятия есть абсолютная определённость, единичность, то понятие становится основой и источником всей конечной определённости и многообразия. Формальная позиция, которую оно сохраняет как рассудок, завершается в кантовском изложении того, что есть разум. На ступени разума – высшей ступени мышления – можно было ожидать, что понятие освободится от обусловленности, в которой оно ещё пребывает на ступени рассудка, и достигнет завершённой истины. Однако это ожидание обмануто. Поскольку Кант определяет отношение разума к категориям как исключительно диалектическое, причём результат этой диалектики понимается им как абсолютно бесконечное ничто, то бесконечное единство разума теряет даже синтез, а вместе с ним и начало спекулятивного, истинно бесконечного понятия. Оно сводится к известной совершенно формальной, лишь регулятивной единственности систематического применения рассудка.
Объявляется злоупотреблением то, что логика, которая должна быть лишь каноном суждения, рассматривается как органон для порождения объективных прозрений. Понятия разума, в которых можно было предчувствовать высшую силу и более глубокое содержание, более не имеют конститутивного характера, как категории; они – лишь идеи. Допускается их использование, но под этими умопостигаемыми сущностями, в которых должна была бы раскрыться вся истина, не подразумевается ничего, кроме гипотез, приписывание которым истины в себе и для себя было бы полным произволом и безрассудством, поскольку они не могут встречаться ни в каком опыте.
Разве можно было предположить, что философия откажет умопостигаемым сущностям в истине лишь потому, что они лишены пространственно-временного материала чувственности?
С этим непосредственно связана точка зрения, согласно которой следует рассматривать понятие и определение логики вообще, и которая в кантовской философии принимается так же, как и обычно – а именно отношение понятия и его науки к самой истине. Ранее из кантовской дедукции категорий было приведено, что объект, в котором объединено многообразие созерцания, есть лишь это единство через единство самосознания. Таким образом, объективность мышления здесь определённо выражена как тождество понятия и вещи, что и есть истина.
Точно так же обычно признаётся, что, когда мышление присваивает себе данный объект, тот претерпевает изменение и превращается из чувственного в мыслимый; но это изменение не только не меняет его сущности, а напротив, лишь в своём понятии он обретает свою истину, тогда как в непосредственности, в которой он дан, он есть лишь явление и случайность; что познание объекта, которое его постигает, есть познание его, как он есть в себе и для себя, и что понятие есть сама его объективность.
С другой стороны, однако, столь же упорно утверждается, что мы всё же не можем познать вещи, как они есть в себе, и что истина недоступна познающему разуму; что та истина, которая состоит в единстве объекта и понятия, есть лишь явление – и опять же на том основании, что содержание есть лишь многообразие созерцания.
Уже было замечено, что именно в понятии это многообразие, поскольку оно принадлежит созерцанию в противопоставлении понятию, снимается, и объект через понятие возвращается к своей неслучайной сущности; она проявляется в явлении, и потому явление не есть лишь лишённое сущности, но проявление сущности. А полностью освобождённое проявление сущности и есть понятие.
Эти положения, о которых здесь напоминается, не являются догматическими утверждениями, поскольку они суть результаты, возникшие из всего развития сущности через самое себя. Нынешняя точка зрения, к которой привело это развитие, такова: абсолютная форма, которая выше бытия и сущности, есть понятие.
Поскольку оно подчинило себе бытие и сущность (к которым при других отправных точках относятся также чувство, созерцание и представление) и доказало себя как их безусловное основание, то остаётся ещё вторая сторона, рассмотрению которой посвящена эта третья книга логики – а именно изложение того, как понятие формирует в себе и из себя реальность, которая в нём исчезла.
Таким образом, признаётся, что познание, останавливающееся на понятии как таковом, ещё неполно и достигло лишь абстрактной истины. Но его неполнота заключается не в том, что ему недостаёт той мнимой реальности, которая дана в чувстве и созерцании, а в том, что понятие ещё не дало себе реальности, порождённой из него самого.
Абсолютность понятия, доказанная против эмпирического материала и, точнее, против его категорий и рефлексивных определений, состоит в том, что оно имеет истину не в том виде, в каком является вне и до понятия, но исключительно в своей идеальности, или тождественности с понятием.
Выведение реального из него (если можно назвать это выведением) состоит прежде всего в том, что понятие в своей формальной абстракции проявляет себя как незавершённое и через имманентную ему диалектику переходит к реальности так, что порождает её из себя, а не возвращается к готовой реальности, найденной вне его, и не прибегает к чему-то, что показало себя как несущественное явление, потому что, поискав лучшее, не нашёл ничего подобного.
Всегда будет вызывать удивление, как кантовская философия, признав то отношение мышления к чувственному бытию, на котором она остановилась, лишь относительным отношением явления и вполне признав и выразив высшее единство обоих в идее вообще (например, в идее созерцающего рассудка), всё же осталась при этом относительном отношении и при утверждении, что понятие абсолютно отделено от реальности и остаётся таковым – тем самым провозглашая истиной то, что она сама назвала конечным познанием, а то, что она признала истиной и для чего дала определённое понятие, объявив чрезмерным, недопустимым и мысленными сущностями.
Поскольку здесь изначально речь идет о логике, о науке вообще, и об ее отношении к истине, то следует также признать, что она, как формальная наука, не может и не должна содержать в себе ту реальность, которая составляет содержание других частей философии – наук о природе и духе. Эти конкретные науки, конечно, поднимаются до более реальной формы идеи, чем логика, но в то же время не так, чтобы они снова возвращались к той реальности, которую сознание, возведенное в науку над своим явлением, оставило позади, или чтобы они снова прибегали к формам, таким как категории и рефлексивные определения, конечность и неистинность которых была показана в логике. Напротив, логика показывает возвышение идеи до той ступени, с которой она становится творцом природы и переходит к форме конкретной непосредственности, чье понятие, однако, снова разрушает эту форму, чтобы вернуться к себе как к конкретному духу.
По сравнению с этими конкретными науками, которые, однако, имеют и сохраняют логическое или понятие как внутренний формирующий принцип (как они имели его в качестве предварительного формирующего принципа), логика, конечно, является формальной наукой, но наукой абсолютной формы, которая в себе есть тотальность и содержит чистую идею истины как таковой. Эта абсолютная форма имеет в себе свое собственное содержание или реальность; понятие, поскольку оно не является тривиальным, пустым тождеством, имеет в моменте своей негативности или абсолютного определения различенные определения; содержание вообще есть не что иное, как такие определения абсолютной формы – содержание, положенное ею самой и потому ей соответствующее.
Эта форма, следовательно, по своей природе совершенно отлична от того, что обычно понимают под логической формой. Она уже сама по себе есть истина, поскольку это содержание соответствует своей форме, или эта реальность соответствует своему понятию, и чистая истина, поскольку ее определения еще не имеют формы абсолютного инобытия или абсолютной непосредственности.
Кант, касаясь в «Критике чистого разума» (с. 83) логики в связи с древним и знаменитым вопросом: «Что есть истина?», прежде всего приводит как нечто тривиальное номинальное определение, что истина есть соответствие познания своему объекту – определение, имеющее великую, даже высшую ценность. Но если вспомнить основное утверждение трансцендентального идеализма, что разумное познание не способно постичь вещи сами по себе, что реальность полностью лежит вне понятия, то сразу становится ясно, что такой разум, который не может находиться в соответствии со своим объектом – вещами самими по себе, и вещи сами по себе, которые не соответствуют понятию разума, понятие, которое не соответствует реальности, реальность, которая не соответствует понятию, – все это есть неистинные представления.
Если бы Кант сопоставил идею интуитивного рассудка с этим определением истины, то он рассматривал бы эту идею, выражающую требуемое соответствие, не как мысленную фикцию, а скорее как истину.
«То, что хотят знать, – продолжает Кант, – есть всеобщий и надежный критерий истинности всякого познания; таким был бы критерий, действительный для всех познаний без различия их объектов; но поскольку при этом абстрагируются от всякого содержания познания (отношения к его объекту), а истина как раз касается этого содержания, то было бы совершенно невозможно и нелепо искать признак истинности этого содержания познаний».
Здесь очень четко выражено обычное представление о формальной функции логики, и приведенное рассуждение кажется весьма убедительным. Однако прежде всего следует заметить, что такому формальному рассуждению обычно свойственно забывать в своих речах ту вещь, которую оно положило в основание и о которой говорит. Говорится, что было бы нелепо искать критерий истинности содержания познания; но согласно определению, не содержание составляет истину, а его соответствие понятию. Содержание, о котором здесь идет речь, без понятия есть нечто бессмысленное, лишенное сущности; о критерии истинности такого, конечно, нельзя спрашивать, но по противоположной причине: именно потому, что оно в силу своей бессмысленности не является требуемым соответствием, а может быть лишь принадлежащим неистинному мнению.
Если оставить в стороне упоминание содержания, которое здесь вызывает путаницу (в которую, однако, формализм постоянно впадает, заставляя его говорить противоположное тому, что он хочет выразить, как только он берется за разъяснения), и остаться при абстрактном взгляде, что логическое есть лишь формальное и скорее абстрагируется от всякого содержания, – то мы получим одностороннее познание, которое не должно содержать в себе объекта, пустую, неопределенную форму, которая, следовательно, столь же мало есть соответствие (поскольку для соответствия по существу требуется два), сколь мало есть истина.
В априорном синтезе понятия у Канта было высшее начало, в котором двойственность могла быть познана в единстве, а следовательно, могло быть познано то, что требуется для истины; но чувственный материал, многообразие созерцания были для него слишком могущественны, чтобы можно было отвлечься от них и перейти к рассмотрению понятия и категорий самих по себе и к спекулятивному философствованию.
Поскольку логика есть наука абсолютной формы, то это формальное, чтобы быть истинным, должно иметь в себе содержание, соответствующее своей форме, и тем более, что логическое формальное есть чистая форма, а следовательно, логическая истина должна быть самой чистой истиной. Поэтому это формальное должно мыслиться гораздо более богатым определениями и содержанием, а также обладающим бесконечно большей действенностью на конкретное, чем это обычно принимается.
Логические законы сами по себе (если отбросить совершенно чуждое – прикладную логику и прочий психологический и антропологический материал) обычно ограничиваются, помимо закона противоречия, несколькими скудными положениями, касающимися обращения суждений и форм умозаключений. Даже встречающиеся здесь формы, как и дальнейшие их определения, принимаются лишь как бы исторически, без критики относительно того, являются ли они сами по себе истинными. Например, форма положительного суждения считается чем-то само по себе совершенно правильным, причем все зависит от содержания, истинно ли такое суждение. Но является ли эта форма сама по себе формой истины, не является ли положение, которое она выражает – «единичное есть всеобщее», – внутренне диалектическим, об этом исследовании не думают. Считается само собой разумеющимся, что это суждение само по себе способно содержать истину и что это положение, которое выражает каждое положительное суждение, истинно; хотя сразу видно, что ему недостает того, что требует определение истины, а именно соответствия понятия и его объекта: предикат, который здесь есть всеобщее, взятый как понятие, и субъект, который есть единичное, взятый как объект, – они не соответствуют друг другу.
Но если абстрактное всеобщее, которое есть предикат, еще не составляет понятия (поскольку для этого требуется больше), равно как и такой субъект есть нечто немногим большее, чем грамматический субъект, – то как суждение может содержать истину, если его понятие и объект не соответствуют друг другу или если ему вовсе недостает понятия, а может быть, и объекта?
Следовательно, гораздо более невозможным и нелепым является желание ухватить истину в подобных формах, каковы положительное суждение и суждение вообще.
Подобно тому как кантовская философия не рассматривала категории сами по себе, а объявляла их конечными определениями, неспособными содержать истину, лишь на том косвенном основании, что они суть субъективные формы самосознания, – она еще менее подвергла критике формы понятия, составляющие содержание обычной логики; она, напротив, приняла часть их, а именно функции суждений, для определения категорий и признала их действительными предпосылками.
Если в логических формах усматривать не более чем формальные функции мышления, то они уже поэтому заслуживают исследования в отношении того, насколько они сами по себе соответствуют истине. Логика, которая этого не делает, может претендовать в лучшем случае на значение естественно-исторического описания явлений мышления, каковы они есть.
Бесконечная заслуга Аристотеля, которая должна наполнять нас высшим восхищением перед силой этого ума, состоит в том, что он первым предпринял это описание. Но необходимо идти дальше и познать, с одной стороны, систематическую связь, а с другой – ценность форм.
Введение к разделу «О понятии вообще».Ключевые идеи:
1. Понятие нельзя постичь сразу – оно раскрывается через опосредование, а не дано непосредственно.
2. Понятие – итог развития бытия и сущности – оно «снимает» их в себе, становясь их основой и истиной.
3. Субстанция и понятие – субстанция (как у Спинозы) есть предпосылка понятия, но понятие выше, ибо включает свободу как истину необходимости.
4. Критика формальной логики – традиционная логика рассматривает понятие как пустую форму, но у Гегеля оно – живая конкретность, синтез всеобщего и единичного.
5. Связь с «Я» – понятие аналогично самосознанию, где единство и отрицание (всеобщее и единичное) совпадают.
Подробное изложение
1. Понятие как опосредованная истина
Понятие нельзя определить прямо, как предметы чувственного мира. Оно не дано изначально, а возникает через движение мысли:
– Бытие – непосредственная, но абстрактная ступень.
– Сущность – рефлексия, скрытая основа явлений.
– Понятие – синтез, где бытие и сущность становятся моментами единого целого.
Пример: Субстанция (как у Спинозы) – это «слепая необходимость», но понятие раскрывает её как свободное самоопределение.
2. От субстанции к понятию
Субстанция проходит три этапа:
1. Причинность – активная субстанция воздействует на пассивную.
2. Взаимодействие – субстанции взаимно определяют друг друга.
3. Понятие – снятие этого взаимодействия в высшем единстве, где необходимость превращается в свободу.
Свобода у Гегеля – не произвол, а осознанная необходимость: понятие есть субстанция, которая «вернулась к себе» через самоопосредование.
3. Понятие vs. формальная логика
– Обычная логика видит в понятии абстрактную форму (например, «все люди смертны»).
– Гегель: Понятие – это конкретное единство:
– Всеобщее (род, например, «животное»).
– Особенное (видовое отличие, например, «разумное»).
– Единичное (индивид, например, «человек»).
Эти моменты нераздельны: всеобщее существует только через единичное, и наоборот.
4. Понятие и самосознание
Понятие подобно «Я»:
– Всеобщность – «Я» абстрагируется от конкретных свойств (я не равно моим мыслям или чувствам).
– Единичность – «Я» исключительно и уникально («я ≠ ты»).
Кант приблизился к этому, назвав понятие «синтетическим единством апперцепции», но остановился на субъективности. Для Гегеля понятие – сама объективность, тождество мысли и бытия.
5. Критика Канта и Спинозы
– Кант прав, что понятие организует опыт, но ошибочно считает его зависимым от чувств.
– Спиноза верно начинал с субстанции, но не дошёл до понятия как свободы.
– Истина – не соответствие мысли «чему-то внешнему», а совпадение понятия с его собственной развитой реальностью.



