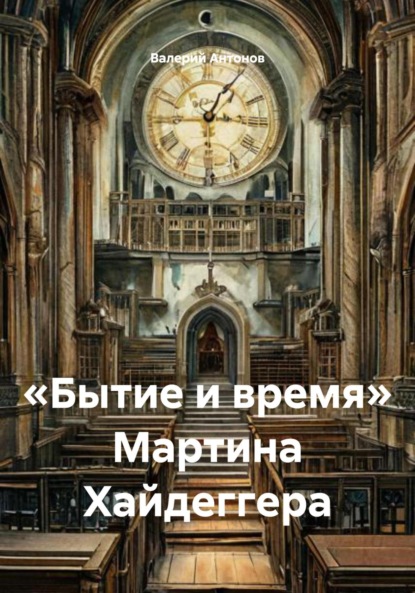
Полная версия:
«Бытие и время» Мартина Хайдеггера
Таким образом, в исторической перспективе можно прояснить цель экзистенциальной аналитики: Декарт, которому приписывают открытие cogito sum как отправной точки новоевропейского философствования, исследовал cogitare ego – в определенных границах. Однако sum он оставляет совершенно нерассмотренным, хотя оно полагается столь же изначальным, как и cogito. Аналитика ставит онтологический вопрос о бытии sum. Если оно определено, тогда способ бытия cogitationes становится постижимым.
Однако эта историческая иллюстрация цели аналитики одновременно вводит в заблуждение. Одна из её первых задач – показать, что исходный пункт в виде заранее данного «Я» и субъекта радикально упускает феноменальное содержание Dasein. Любая идея «субъекта» – если она не очищена предварительной онтологической базовой дефиницией – онтологически сохраняет установку subjectum (ὑποκείμενον), как бы энергично ни сопротивлялись эмпирически «субстанции души» или «овеществлению сознания». Сама вещность нуждается в прояснении своего онтологического происхождения, чтобы можно было спросить, что же тогда положительно следует понимать под не-овеществленным бытием субъекта, души, сознания, духа, личности. Все эти термины обозначают определенные, «оформляемые» феноменальные области, но их использование сопровождается поразительным отсутствием потребности спрашивать о бытии так обозначаемого сущего. Поэтому в нашей терминологии нет произвола, если мы избегаем этих терминов, как и выражений «жизнь» и «человек», для обозначения сущего, каковым мы сами являемся.
С другой стороны, в правильно понятой тенденции всех научно-серьёзных «философий жизни» – это слово означает примерно то же, что «ботаника растений» – невыраженно присутствует стремление к пониманию бытия Dasein. Однако бросается в глаза, и это её принципиальный недостаток, что сама «жизнь» не становится онтологически проблемой как способ бытия.
Исследования В. Дильтея пронизаны постоянным вопросом о «жизни». «Переживания» этой «жизни» он стремится понять в их структурной и развивающейся взаимосвязи, исходя из целостности самой жизни. Философски значимым в его «психологии гуманитарных наук» является не то, что она больше не ориентируется на психические элементы и атомы и не пытается складывать душевную жизнь из кусочков, а направлена на «целостность жизни» и «формы», – а то, что во всём этом он прежде всего двигался к вопросу о «жизни». Однако здесь же наиболее явно проявляются границы его проблематики и понятийного аппарата, в котором она должна была выражаться. Эти границы разделяют с Дильтеем и Бергсоном все определяемые ими направления «персонализма» и все тенденции к философской антропологии. Даже принципиально более радикальная и прозрачная феноменологическая интерпретация личности не достигает измерения вопроса о бытии Dasein. При всех различиях в постановке вопроса, исполнении и мировоззренческой ориентации интерпретации личности у Гуссерля и Шелера совпадают в негативном. Они больше не ставят вопрос о самом «бытии личностью».
В качестве примера мы выбираем интерпретацию Шелера не только потому, что она доступна в литературе, но и потому, что Шелер подчеркивает бытие личностью как таковое и пытается определить его через разграничение специфического бытия актов по отношению ко всему «психическому». Личность, по Шелеру, никогда не может мыслиться как вещь или субстанция: «она есть непосредственно переживаемая единственность переживания – а не просто мыслимая вещь за пределами непосредственно переживаемого». Личность не есть вещное субстанциальное бытие. Кроме того, бытие личности не может сводиться к тому, чтобы быть субъектом разумных актов определённой закономерности.
Личность – не вещь, не субстанция, не объект. Тем самым подчёркивается то же, что указывает Гуссерль, требуя для единства личности существенно иной конституции, чем для единства природных вещей. То, что Шелер говорит о личности, он формулирует и для актов: «Но акт никогда не является объектом; ибо сущность бытия актов состоит только в том, чтобы переживаться в самом их осуществлении и даваться в рефлексии». Акты – нечто внепсихическое. Сущность личности заключается в том, что она существует только в осуществлении интенциональных актов; она, следовательно, по своей сути не объект. Любая психическая объективация, то есть любое понимание актов как чего-то психического, тождественно деперсонализации. Личность дана как исполнитель интенциональных актов, связанных единством смысла. Психическое бытие, таким образом, не имеет ничего общего с бытием личностью. Акты осуществляются, личность – исполнитель актов. Но каков онтологический смысл «осуществления», как положительно онтологически определить способ бытия личности? Однако критический вопрос не может здесь остановиться. Встаёт вопрос о бытии целостного человека, которого привыкли понимать как единство телесно-душевно-духовного. Тело, душа, дух могут обозначать феноменальные области, которые для определённых исследований могут тематически выделяться; в определённых границах их онтологическая неопределённость может не иметь значения. Но в вопросе о бытии человека его нельзя вычислить суммированием способов бытия тела, души и духа, которые, к тому же, ещё только предстоит определить. Даже для онтологической попытки, действующей таким образом, должна предполагаться идея бытия целого.
Но то, что блокирует или уводит в сторону принципиальный вопрос о бытии Dasein, – это повсеместная ориентация на антично-христианскую антропологию, недостаточные онтологические основания которой игнорируются как персонализмом, так и философией жизни. Традиционная антропология содержит в себе:
1. Определение человека как ζῷον λόγον ἔχον (живое существо, обладающее разумом) в интерпретации: animal rationale, разумное животное. Однако способ бытия ζῷον понимается здесь в смысле наличного бытия и встречаемости. Λόγος – это высшее свойство, способ бытия которого остаётся столь же тёмным, как и способ бытия этого составного сущего.
2. Другой ориентир для определения бытия и сущности человека – теологический: καὶ εἶπεν ὁ θεός· ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ’ εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ’ ὁμοίωσιν (Быт. 1:26) – «сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему». Христианско-теологическая антропология, включая античное определение, получает отсюда интерпретацию сущего, которое мы называем человеком. Но так же, как бытие Бога интерпретируется онтологически средствами античной онтологии, тем более – бытие ens finitum (конечного сущего). Христианское определение в ходе Нового времени было детеологизировано. Однако идея «трансценденции», что человек есть нечто, выходящее за свои пределы, коренится в христианской догматике, которую вряд ли можно назвать когда-либо ставившей бытие человека онтологически как проблему.
Для традиционной антропологии существенны два истока: греческое определение и теологический ориентир. Они показывают, что при определении сущности сущего «человек» вопрос о его бытии забывается, а само это бытие понимается как «само собой разумеющееся» в смысле наличного бытия прочих созданных вещей. В новоевропейской антропологии эти два ориентира переплетаются с методологическим исходным пунктом – res cogitans, сознанием, связью переживаний. Но поскольку cogitationes остаются онтологически неопределёнными или, опять же, невыраженно принимаются как нечто «данное», чьё «бытие» не подвергается вопросу, антропологическая проблематика остаётся неопределённой в своих решающих онтологических основаниях.
То же самое в не меньшей степени относится к «психологии», антропологические тенденции которой сегодня очевидны. Отсутствующее онтологическое основание не может быть восполнено и тем, что антропология и психология встраиваются в общую биологию. В порядке возможного постижения и интерпретации биология как «наука о жизни» основана в онтологии Dasein, хотя и не исключительно в ней. Жизнь есть особый способ бытия, но по своей сути доступна только в Dasein. Онтология жизни осуществляется путём привативной интерпретации: она определяет то, что должно быть, чтобы могло существовать нечто вроде «только-ещё-жизни». Жизнь – ни чистое наличное бытие, но и не Dasein. Dasein, в свою очередь, онтологически никогда нельзя определить так, чтобы полагать его как жизнь (онтологически неопределённую) и, кроме того, ещё как нечто иное.
Указание на отсутствие однозначного, онтологически достаточно обоснованного ответа на вопрос о способе бытия этого сущего, каковым мы сами являемся, в антропологии, психологии и биологии – не является приговором положительной работе этих дисциплин. С другой стороны, необходимо постоянно осознавать, что эти онтологические основания никогда не могут быть гипотетически выведены задним числом из эмпирического материала, что они всегда уже «есть» даже тогда, когда эмпирический материал только собирается. То, что позитивное исследование не видит эти основания и принимает их как само собой разумеющиеся, – не доказательство того, что они не лежат в основе и не являются проблематичными в более радикальном смысле, чем любая тезисная позиция позитивной науки.
Комментарии и пояснения1. Dasein – ключевое понятие Хайдеггера, обозначающее человеческое бытие как осмысленное присутствие в мире. Оно не сводится ни к субъекту, ни к сознанию, а раскрывается через экзистенциальные структуры (забота, временность и др.).
2. Привативная интерпретация – метод, при котором сущность явления раскрывается через отрицание («жизнь – не вещь, не Dasein»).
3. Критика традиционной антропологии:
– Греческое определение (animal rationale) и христианское (образ Божий) не ставят вопрос о бытии человека, принимая его как данность.
– Новоевропейская философия (Декарт) упускает sum в cogito sum, сводя бытие к мышлению.
4. Шелер и Гуссерль анализируют личность через акты, но не исследуют её бытие как таковое.
5. Онтология жизни возможна только через Dasein, так как жизнь сама по себе не обладает самораскрытием.
6. Проблема «овеществления» – критика сведения человеческого бытия к вещи, субстанции или объекту, что игнорирует его экзистенциальный характер.
§11. Экзистенциальная аналитика и интерпретация примитивного присутствия. Трудности обретения «естественного понятия мира»Этот параграф подчёркивает, что подлинная онтология требует не просто накопления фактов, а радикального переосмысления самих основ человеческого бытия.
Интерпретация присутствия (Dasein) в его повседневности не тождественна описанию примитивной ступени бытия, знание о которой может быть получено эмпирически через антропологию. Повседневность не совпадает с примитивностью. Повседневность – это модус бытия присутствия, который сохраняется даже и именно тогда, когда присутствие функционирует в условиях высокоразвитой и дифференцированной культуры. С другой стороны, даже примитивное присутствие обладает своими возможностями неповседневного бытия и имеет свою специфическую повседневность.
Ориентация анализа присутствия на «жизнь примитивных народов» может иметь положительное методологическое значение, поскольку «примитивные феномены» часто оказываются менее затемнёнными и усложнёнными из-за уже развитой самоинтерпретации данного присутствия. Примитивное присутствие часто выражает себя более непосредственно, исходя из первичного погружения в «феномены» (понимаемые в дофеноменологическом смысле). Даже если с нашей точки зрения его понятийный аппарат кажется неуклюжим и грубым, это может способствовать подлинному выявлению онтологических структур явлений.
Однако до сих пор наше знание о примитивных культурах предоставляется этнологией. А эта наука уже на этапе первичного сбора материала, его систематизации и обработки опирается на определённые предварительные понятия и интерпретации человеческого присутствия вообще. Неочевидно, что обыденная психология, а тем более научная психология и социология, которыми пользуется этнолог, обеспечивают адекватный доступ, интерпретацию и передачу исследуемых феноменов. Здесь мы сталкиваемся с той же ситуацией, что и в ранее упомянутых дисциплинах. Этнология уже заранее предполагает достаточную аналитику присутствия в качестве руководящей нити.
Но поскольку позитивные науки не могут и не должны ждать, пока философия выполнит свою онтологическую работу, прогресс исследования будет осуществляться не как «поступательное движение», а как повторение и онтологически более прозрачная очистка того, что уже было обнаружено на уровне сущего (онтически).
Трудности экзистенциальной аналитики
Как бы легко ни выглядело формальное разграничение онтологической проблематики и исследования сущего, реализация экзистенциальной аналитики присутствия, и особенно её исходный замысел, сопряжена с трудностями. В её задаче заключено давнее философское стремление, которое до сих пор остаётся неудовлетворённым: разработка идеи «естественного понятия мира».
Казалось бы, сегодняшнее обилие знаний о самых разнообразных и отдалённых культурах и формах присутствия благоприятствует решению этой задачи. Но это лишь видимость. На самом деле, такое чрезмерное богатство знаний скорее искушение для упущения подлинной проблемы. Синкретическое сравнение всего со всем и типологизация сами по себе ещё не дают подлинного познания сущности. Возможность упорядочить многообразие в таблице ещё не гарантирует действительного понимания того, что в ней систематизировано. Подлинный принцип порядка имеет собственное содержательное основание, которое никогда не обнаруживается в процессе упорядочивания, а уже заранее предполагается в нём.
Таким образом, для упорядочения картин мира требуется эксплицитная идея мира как такового. А если «мир» сам является конститутивным моментом присутствия, то понятийная разработка феномена мира требует понимания основных структур присутствия.
Заключительные замечания
Позитивные характеристики и критические соображения, изложенные в этой главе, имели целью направить понимание тенденции и вопрошания последующей интерпретации в правильное русло.
Онтология может лишь косвенно способствовать развитию существующих позитивных дисциплин. У неё есть собственная цель – если, конечно, вопрос о бытии (помимо простого познания сущего) остаётся главным стимулом всякого научного поиска.
Комментарии и объяснения.1. Присутствие (Dasein) – у Хайдеггера это не просто «человек», а способ бытия, для которого важно понимание собственного существования.
2. Повседневность vs. примитивность – Хайдеггер подчёркивает, что повседневность есть у всех, даже в высокоразвитых культурах, а примитивность – это лишь одна из форм бытия.
3. Онтологическое vs. онтическое – онтология изучает бытие как таковое, а онтические науки (например, антропология) – конкретные сущности.
4. «Естественное понятие мира» – идея, которая должна раскрыть мир не как сумму объектов, а как горизонт человеческого существования.
5. Критика этнологии – Хайдеггер указывает, что даже наука о «примитивных» культурах зависит от предварительных философских понятий, которые часто не осмыслены.
Рекомендации к изучению §§9-11 "Бытия и времени" Хайдеггера.Для углубленного изучения §§9-11 "Бытия и времени" Хайдеггера, где раскрываются ключевые понятия Dasein, экзистенции, повседневности и критика традиционной антропологии, рекомендую следующие источники с пояснениями и стратегией чтения:
I. Основные тексты Хайдеггера (Обязательная база)
1. «Бытие и время» (Sein und Zeit, 1927)
§§4-11, 12-13, 25-27, 68-71: Читайте последовательно.
§§9-11 – основа, но без контекста (§§48 о структуре "заботы", §12 о "бытии-в-мире", §27 о "повседневности") будут непонятны.
Рекомендация: Используйте комментированные издания:
W. McNeill (ed.): "Pathmarks" – содержит ключевые статьи, поясняющие метод.
T. Kisiel: "The Genesis of Heidegger’s Being & Time" – детально разбирает генезис идей.
2. «Основные проблемы феноменологии» (Die Grundprobleme der Phänomenologie, 1927)
Лекции, параллельные "Бытию и времени". Разъясняют различия экзистенциалов (Dasein) и категорий (вещи), критику античной онтологии (§10).
Фокус: Глава "Различие бытийных регионов" (с. 170-200 в рус. пер.).
II. Ключевые комментарии и анализ
A. Об аналитике Dasein (§9):
3. H. Dreyfus: "BeingintheWorld: A Commentary on Heidegger’s Being and Time, Division I"
Почему важно: Лучший англоязычный комментарий. Объясняет "бытие-к", "принадлежностьмне" (Jemeinigkeit), различие подлинного/неподлинного без морализаторства.
Читать: Главы 45 ( §§9-11).
4. S. Mulhall: "Heidegger and Being and Time" (Routledge, 2005)
Почему важно: Сжатый анализ структуры Dasein. Четко показывает, почему Хайдеггер отвергает субстанциональность человека.
Фокус: Глава 2 ("The Human World").
B. О критике наук (§10-11):
5. M. Haar: "Heidegger and the Essence of Man" (1993)
Почему важно: Разбирает критику антропологии (§10), связь с Ницше, проблему "овеществления".
Ключевая глава: 1 ("The End of Humanism").
6. R. Bernasconi: "Heidegger in Question" (1993)
Почему важно: Анализ §11 о примитивности и этнологии. Показывает ограниченность хайдеггеровского подхода к другим культурам.
Фокус: Глава "On Heidegger’s Other Sins of Omission".
C. О повседневности и "усредненности":
7. J. Stambaugh: "Everydayness and the Question of Being" (в сб. "Heidegger: Critical Assessments", 1992)
Почему важно: Объясняет, почему повседневность (§9) – не "низшая" форма бытия, а основа для понимания Dasein.
Связь с §11: Показывает, как "естественное понятие мира" связано с повседневной практикой.
III. Контекст и полемика
8. Критика Декарта и Гуссерля (§10):
E. Tugendhat: "SelfConsciousness and SelfDetermination" (1986)
Сравнивает хайдеггеровскую аналитику Dasein с гуссерлевской феноменологией. Показывает, почему "cogito sum" недостаточно.
Р. Сафрански: "Хайдеггер: германский мастер и его время"
Доступно объясняет полемику Хайдеггера с неокантианством и Гуссерлем (гл. 78).
9. Философская антропология (в ответ на §10):
М. Шелер: "Положение человека в космосе" (1928)
Контраст хайдеггеровской критике. Шелер пытается строить антропологию на основе "духа" и "жизни".
A. Agamben: "The Open: Man and Animal" (2002)
Анализирует, почему Хайдеггер отвергал биологизацию человека (§10).
IV. Дополнительные ресурсы
Словари:
M. Inwood: "A Heidegger Dictionary" – статьи "Dasein", "Existence", "Everydayness".
Сборники:
H. L. Dreyfus, M. Wrathall (eds.): "A Companion to Heidegger" – статьи C. Guignon ("Dasein"), T. Carman ("Authenticity").
Лекции Хайдеггера:
"Пролегомены к истории понятия времени" (1925) – протоверсия "Бытия и времени", где четче видна критика Гуссерля.
Стратегия чтения:
1. Начните с комментариев Дрейфуса и Малхолла – они "расчистят" терминологию §§9-11.
2. Затем – оригинал Хайдеггера с параллельным чтением McNeill или Kisiel.
3. Для углубления в тему наук – Haar и Bernasconi.
4. Для контекста – Шелер и Tugendhat.
Важно: §§9-11 – лишь фундамент. Без изучения темпоральности (§§65-71) и историчности (§72-77) анализ Dasein останется неполным. Не пропускайте Division II "Бытия и времени".
Предупреждение: Избегайте упрощенных трактовок "подлинности" как "хорошо", а "неподлинности" как "плохо". Хайдеггер подчеркивает их онтологическую нейтральность (§9).
Глава 2. Бытие-в-мире как фундаментальная структура присутствия.
§12. Предварительное обозначение бытия-в-мире через ориентацию на «бытие-в» как таковоеВ предварительных рассуждениях (§ 9) мы уже выделили некоторые характеристики бытия, которые должны послужить надежной основой для дальнейшего исследования, но которые сами в ходе этого исследования получат свою структурную конкретизацию.
Присутствие (Dasein) – это сущее, которое в своем бытии понимающе относится к этому бытию. Этим задается формальное понятие экзистенции. Присутствие экзистирует. Кроме того, присутствие – это сущее, которое в каждом случае есть я сам. К экзистирующему присутствию принадлежит всегда-моё (Jemeinigkeit) как условие возможности подлинности (Eigentlichkeit) и неподлинности (Uneigentlichkeit). Присутствие экзистирует всегда в одном из этих модусов или же в модальной индифферентности их обоих.
Однако эти определения бытия присутствия должны быть поняты априори на основе той структуры бытия, которую мы называем бытием-в-мире (In-der-Welt-sein). Правильный подход к аналитике присутствия заключается в истолковании этой структуры.
Сложное выражение «бытие-в-мире» уже своим построением указывает на то, что оно обозначает единый феномен. Этот первичный факт необходимо рассматривать целостно. Его неразложимость на отдельные составляющие не исключает множественности конститутивных моментов этой структуры. Феномен, обозначаемый этим выражением, действительно допускает три аспекта рассмотрения:
1. «В мире» (in der Welt). В связи с этим моментом возникает задача исследовать онтологическую структуру «мира» (Welt) и определить идею мирности (Weltlichkeit) как таковой (см. главу 3).
2. Сущее, которое существует способом бытия-в-мире. Здесь мы ищем ответ на вопрос «Кто?». Феноменологическое описание должно определить, кто существует в модусе повседневной усредненности присутствия (см. главу 4).
3. «Бытие-в» (In-Sein) как таковое. Необходимо выявить онтологическую конституцию внутренности (Inheit) самой по себе (см. главу 5).
Выделение любого из этих моментов структуры означает одновременно выделение других – то есть каждый раз мы видим целый феномен.
Бытие-в-мире – это, безусловно, априорно необходимая структура присутствия, но ее недостаточно для полного определения его бытия. Прежде чем перейти к тематическому анализу трех выделенных феноменов, попробуем дать ориентировочную характеристику последнего из них – «бытия-в».
Что означает «бытие-в»?
Сначала мы дополняем это выражение до «бытие-в мире» и склонны понимать его как «бытие внутри…». Этот термин обозначает способ бытия сущего, которое «в» другом, как вода «в» стакане или платье «в» шкафу. Здесь «в» выражает отношение двух пространственно протяженных сущих друг к другу с точки зрения их местоположения. Вода и стакан, платье и шкаф одинаково находятся «в» пространстве «на» определенном месте.
Это отношение можно расширить: скамья в аудитории, аудитория в университете, университет в городе и так далее – вплоть до «скамья в мировом пространстве». Все эти сущие, чье «в-друг-друге» можно так определить, обладают одним и тем же способом бытия – наличным бытием (Vorhandensein) как вещей, встречающихся «внутри» мира.
Наличное бытие «в» другом наличном, совместное наличное бытие с чем-то того же способа бытия – это онтологические категориальные характеристики, относящиеся к сущему, чей способ бытия не является присутствием.
«Бытие-в», напротив, означает структуру бытия присутствия и является экзистенциалом (Existenzial). Оно не может означать наличное бытие телесной вещи (человеческого тела) «в» другом наличном сущем.
«Бытие-в» не означает пространственного «в-друг-друге» наличных вещей, так как «в» изначально не выражает пространственного отношения.
– «В» происходит от innan- – «жить», «обитать», «пребывать» (wohnen, habitare, sich aufhalten).
– «У» (an) означает: «я привык», «я знаком», «я забочусь о чем-то» (ich bin gewohnt, vertraut mit, ich pflege etwas).
Сущее, которому принадлежит «бытие-в» в этом смысле, мы охарактеризовали как сущее, которым я в каждом случае являюсь сам. Выражение «есмь» (bin) связано с «при» (bei). «Я есмь» означает: я обитаю, пребываю при… мире как чем-то знакомом.
Бытие (Sein), понимаемое как инфинитив «я есмь» (то есть как экзистенциал), означает: жить при…, быть знакомым с…
Таким образом, «бытие-в» – это формальное экзистенциальное выражение бытия присутствия, которое имеет сущностную структуру бытия-в-мире.
«Бытие-при» мире.
«Бытие-при» (Sein bei) мира (в еще подлежащем истолкованию смысле погруженности в мир) – это экзистенциал, основанный на «бытии-в».
Поскольку в этих анализах речь идет о усмотрении изначальной структуры бытия присутствия, чей феноменальный состав требует соответствующей артикуляции понятий бытия, и поскольку эту структуру принципиально невозможно схватить с помощью традиционных онтологических категорий, необходимо более детально рассмотреть это «бытие-при».
Мы снова выбираем путь противопоставления онтологически иному (то есть категориальному) отношению бытия, которое выражается теми же языковыми средствами.
Такое феноменальное прояснение легко стираемых фундаментальных онтологических различий должно быть проведено явно, даже если это грозит обсуждением «самоочевидного». Однако состояние онтологической аналитики показывает, что мы далеко не вполне владеем этими «очевидностями» и еще реже толкуем их смысл бытия, а тем более не обладаем адекватными структурными понятиями в четком виде.



