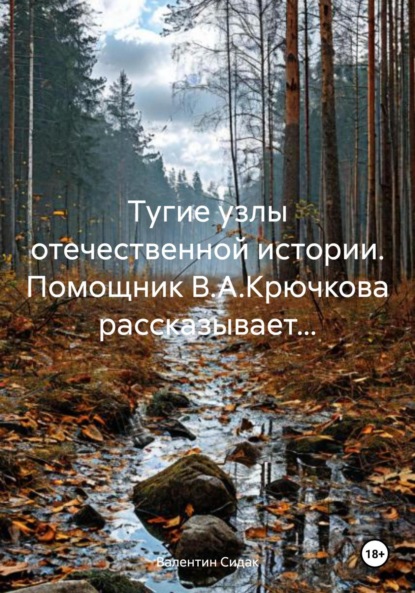
Полная версия:
Тугие узлы отечественной истории. Помощник В.А.Крючкова рассказывает…
«Просмотрели, недоглядели, проморгали, упустили, не пресекли, не посадили, не придушили, не ликвидировали» и так далее в том же духе до бесконечности. Причем все эти досужие рассуждения и эмоциональные пожелания относятся преимущественно лишь к участникам достаточно узкой по численности и персональному составу группы «штатных разрушителей СССР», среди которых особой заботой и вниманием обывательской публики окружены М.Горбачев, А.Яковлев и Э.Шеварднадзе. Приведенных «экспертной частью» обывательской публики списков «явных, безусловных и совершенно очевидных агентов влияния» Запада, Востока, Севера или Юга сегодня можно было бы легко насчитать по публикациям в бульварной прессе уже не один десяток!
Обширная, в массе своей достаточно наивная и при том несколько туповатая публика просто не знает, о чем она столь проникновенно, порой с нотками истерики, но зато с очевидным псевдо-патриотическим надрывом говорит. Да и те же ветераны органов советской контрразведки не очень-то стремятся помочь им в этом разобраться самостоятельно и всерьез, без участия ангажированных, продажных писак из целого ряда электронных и печатных СМИ. Причина тому достаточно простая, даже примитивная и она лежит прямо на поверхности: они-то, в отличие от работников разведки, и сами не шибко грамотны в этой непростой материи, чтобы профессионально разбираться в деталях и особенностях весьма специфической сферы подрывной деятельности специальных служб противника и при этом не путать «божий дар с яичницей».
В советской разведке периода моей службы в ней активное мероприятие – это ответственнейшая специальная операция по содействию специфическими силами, средствами и методами разведывательных и контрразведывательных служб Советского Союза успешному решению наиболее актуальных, наиболее сложных, острых и деликатных проблем внешней и внутренней политики СССР. Ранее я мельком упоминал, что комплексное активное мероприятие, завершившееся вполне конкретным и весомым позитивным результатом, в котором мне, благодаря стечению ряда обстоятельств, довелось сыграть главную, ключевую роль, прошло в оперативных отчетах внешней разведки по наивысшей разметке и было самостоятельно (!), в виде отдельного доклада в Инстанцию отражено в так называемой сводке «Горизонт». Это являлось высшей оценкой как самой идее, оперативной «задумке» и «начинке» активного мероприятия, так и уровню его организации, порядку проведения, весомости достигнутых в конечном итоге результатоы, а также качеству чисто оперативно-разведывательного обеспечения проведенной работниками Службы работы! Именно об этом активном мероприятии как о наглядном примере успеха советской внешней разведки В.А.Крючков несколько позднее рассказал (естественно, с соблюдений всех принятых в разведке правил конспирации и зашифровки оперативных данных) на одном из оперативных совещаний руководящего состава ПГУ КГБ СССР. Кстати, в этом же комплексном спецмероприятии за рубежом активное участие принимал и ныне покойный Леонид Владимирович Шебаршин, добрая и благодарная ему память!
В данном конкретном случае я хотел бы подчеркнуть лишь одно: во времена СССР «давать старт» намеченному активному мероприятию разведки с территории нашей страны запрещалось категорически! В противном случае это была бы уже обычная спецпропаганда, но никоим образом не активное мероприятие, ибо «уши» заинтересованной в ее проведении стороны проглядывались мгновенно и без особого труда, а эффективность проводимой различными источниками работы снижалась многократно. Поэтому разного рода байки т.н. консультантов Международного отдела ЦК КПСС или руководителей ряда академических институтов АН СССР страноведческой направленности об успешно проведенных ими «беседах влиянии» с представителями правящих элит западных стран выглядят по меньшей мере легковесно и несерьезно. Если кто всерьез заинтересовался указанной темой, рекомендую ознакомиться с текстом изданного Государственным департаментом США в августе 1987 года специального доклада под названием «Советские активные мероприятия: Доклад об активных мероприятиях и пропаганде, 1986-87» (https://vtoraya-literatura.com/pdf/sovetskie_aktivnye_meropriyatiya_ch1_1987__ocr.pdf).
В 2011 году в издательстве «Алгоритм» в серии «Как Путину обустроить Россию» вышла книга бывшего первого заместителя Председателя КГБ СССР Ф.Д.Бобкова под названием «Как бороться с «агентами влияния». В редакционной аннотации на эту книгу говорится, в частности: «Видеть «запальные шнуры» и вовремя реагировать на них можно научиться только в том случае, если достало силы детально разобраться в их механизме», – отмечает автор и подробно рассказывает о том, как боролись с «агентами влияния» в советское время. Он приводит уникальные факты из деятельности Пятого Управления КГБ и подробности различных операций по нейтрализации антигосударственных элементов».
«Уникальные факты», даже так… Скажите-ка, уважаемые коллеги из «политической контрразведки», кого из выявленных, обезвреженных и изобличенных в Советском Союзе в послесталинский период агентов специальных служб зарубежных стран вы смогли бы обоснованно и с профессиональной точки зрения достаточно оправданно отнести к категории агентов влияния? Неужели тех же диссидентов Солженицина, Бродского, Сахарова, Щаранского, Буковского, Аксенова, Новодворскую, Чуковскую, Зиновьева, генерала Григоренко – кого там еще можно добавить в этот перечень подопечных интерессантов 5-го Управления КГБ?
Вы их всех оперативно разрабатывали? Да, причем некоторых очень даже активно, пристально и прицельно, с привлечением немалых оперативных сил, средств и возможностей. Да вот только каких-то весомых доказательств их причастности к агентуре зарубежных спецслужб наши доблестные контрразведчики так и не смогли добыть – заявляю об этом вполне ответственно, опираясь на обширный массив ваших же собственных оперативных документов. Так чего же после этого языком попусту молоть на темы таинственного «списка Крючкова», в котором были якобы раскрыты данные о конкретных агентах влияния в СССР? Или по поводу не существовавшей в природе, но зато уж больно красочной информационно и зловеще привлекательной для слуха обывателя «доктрины руководителя ЦРУ Аллена Даллеса»? Или в отношении реально существовавшего, но явно недовскрытого до нужной глубины понимания и логического завершения «плана Лиотэ»? А также многих иных расхожих конспирологических разностей, которые сегодня вовсю на слуху и на устах у отдельных сверхбдительных граждан из околополитических группировок типа движений Е.Федорова, С.Кургиняна, Н.Старикова и др.?
Кстати, замечу попутно, что роль и значение Ф.Д.Бобкова как непосредственного руководителя в организации практической деятельности 5-го Управления КГБ СССР является, на мой взгляд, несколько преувеличенной. Да, он действительно был поистине «мозговым центром» в борьбе с «диссидентами» в СССР. Но в среде этой самой «гнилой советской интеллигенции» бóльшей славой непримиримого борца с инакомыслием, равно как и сдержанным почтением и откровенной опаской пользовался отнюдь не он, как непосредственный куратор этого направления, а многолетний начальник «пятерки» (с 1983 по 1989 годы) генерал-лейтенант Иван Павлович Абрамов. Вот он уж действительно был очень крутым, жестким и требовательным руководителем, нередко в его поведении проскальзывали элементы определенной заносчивости и даже некоторого самодурства. Но ведь и время-то на его долю выпало очень непростое с точки зрения необходимости неотложного принятия крайне ответственных решений и организации практических действий…
Во-первых, все знаменитое «хлопковое дело» – что называется, «от заката и до рассвета», состоялось как раз при нем. Во-вторых, валом пошла беспрестанная череда мощнейших взрывов и аварий то в Чернобыле, то в Арзамасе, Уфе, Свердловске и во многих других местах (а террором как раз и занималась «пятерка», все «шишки» валились сверху именно на ее многострадальную голову). В-третьих, это происходило в период начала безудержного и безбрежного разгула «парламентаризма» в стране, развертывания боевой активности мусульманских организаций и движений в Южном Ливане против СССР и пр. Но самое главное – это был период внезапного и очень резкого всплеска той волны национализмов всех мастей и оттенков во многих проблемных регионах СССР – начиная с Нагорного Карабаха, Закавказья, прибалтийских республик и заканчивая регионами Средней Азии, который, на мой взгляд (и я прямо и открыто написал об этом в книге «Зарубки на гриппозной сопатке. Размышления о нашем недавнем прошлом…») в конечном итоге и привел к крушению СССР.
Ведь и тогдашний руководитель КГБ СССР В.М.Чебриков тоже далеко «не сахар» был. Член Политбюро Егор Лигачев позднее рассказывал о Чебрикове той поры, комментируя некоторые уже современные свидетельства о том, что председатель КГБ выглядел человеком постоянно угрюмым и мрачным: «Ну что поделаешь, характер такой. Он был немного замкнутый, на первый взгляд несколько суровый, но спокойный, надежный человек, и мы все ему верили. Он в рот Горбачеву не смотрел. Он один из немногих, кто мог и возразить с должным тактом, попытаться убедить и провести свою линию».
Однако вовсе не случайно в 1989 году по прямому и почти ультимативному требованию А.Н.Яковлева (а если говорить еще более определённо – с подачи окружавшего его достаточно мощного просионистского лобби в ЦК КПСС и многих других руководящих органах страны) именно И.П.Абрамов, уже не первый год все мечтавший о должности заместителя председателя КГБ и имевший вполне реальные шансы на ее получение, был неожиданно для многих (в том числе и для него самого) был переведен в Генеральную прокуратуру СССР на должность «-надцатого» заместителя генерального прокурора. Все было сделано чисто по-советски, по-коммунистически: вроде бы формально человек и идет на повышение, но по схеме «с глаз долой – из сердца вон». Его заменил на боевом посту в КГБ очередной партийный чиновник, достаточно, на мой взгляд, серенький по своим способностям руководителя и по манере личностного политического поведения – заведующий сектором отдела административных органов ЦК КПСС Евгений Федорович Иванов. Кадровик, может быть, из него был и неплохой, да и партийный чиновник вроде бы тоже ничего, но какой он, к лешему, «оперативник-контрразведчик в поле»? Поэтому-то Иванов после развала СССР вслед за Бобковым и побежал резво в группу «Мост» выслуживаться перед олигархом Гусинским, бывшим ценным подопечным «пятерки»…
Лично я мог бы в чисто умозрительном, предположительном плане назвать только три кандидатуры (из числа известных и разоблаченных агентов – подчеркиваю это особо, далеко не всех еще разоблачили до сих пор!) на роль агентов влияния. Из них две реальные фигуры (бывший помощник А.А.Громыко Аркадий Николаевич Шевченко, ставший по его воле заместителем Генерального секретаря ООН по квоте СССР и выдвиженец маршала артиллерии Варенцова, доверенное лицо руководителя ГРУ ГШ ВС СССР, любимца депутата Хинштейна генерала Серова полковник Олег Владимирович Пеньковский) и одна потенциальная (прототип героя фильма «ТАСС уполномочен заявить» сотрудник МИД СССР Александр Дмитриевич Огородник, который чуть было не стал полноценным зятем члена номенклатуры высшего эшелона власти, секретаря ЦК КПСС Константина Русакова).
Настоящим, классическим агентом влияния (только вот весьма затруднительно определить с точностью – спецслужб или тайных структур каких именно стран?) являлся, по моей сугубо личной оценке, покойный Лев Давидович Бронштейн, более известный всему миру под фамилией Троцкий. Думаю, именно это обстоятельство было одной из основных причин, по которой долготерпеливый и политически выдержанный И.В.Сталин по прошествии многих лет межличностных политических баталий все же «дал отмашку» на его физическую ликвидацию, но сделал это лишь в 1940 году, в разгар уже начавшейся Второй мировой войны! В Турции, во Франции, в Норвегии Л.Д.Троцкий с точки зрения обеспечения личной безопасности был куда более уязвим, чем в Мексике, однако вождь почему-то очень долго, еще с 1926-1929 гг. терпел все его многочисленные явно враждебные выходки. В том числе направленные на организацию заговорщицкой деятельности в среде высшего военного руководства страной, идущей в очевидную параллель с предпринятыми после известных событий в Испании целенаправленными и настойчивыми усилиями спецслужб гитлеровской Германии.
Другой хрестоматийный агент влияния кайзеровской Германии – небезызвестный Александр Парвус (Израиль Лазаревич Гельфанд) с его достаточно узкой, но зато хорошо законспирированной и очень влиятельной креатурой приближенных лично к В.И.Ленину (Ульянову) и к его ближайшему окружению лиц (Троцкий, Зиновьев (Апфельбаум), Радек, Фюрстенберг (Ганецкий), Максим Горький (Пешков), Коллонтай, Раковский, Козловский, Воровский и др.). Их истинная роль в событиях 1905-1917 гг. и многие непонятные, алогичные поступки не до конца прояснены историками (в том числе историками спецслужб) и до сих пор. И то, что Парвуса, как и Троцкого, сегодня всячески пытаются обелить на страницах мировой истории именно через российские СМИ и именно через российский кинематограф – все это, на мой взгляд, лишь отдельные фрагменты тщательно продуманного и хорошо скоординированного глобального замысла очередной ревизии отечественной истории с очень дальним и весьма перспективным прицелом…
Был, правда, в отечественной истории еще один «суперагент влияния» – «расстрелянный английский шпион» Лаврентий Павлович Берия… Но в дело его «разоблачения как вражеского агента» и в его физическое устранение контрразведчики и разведчики всех мастей свой добровольн0-принудительный вклад внесли скорее на сугубо политическом, чем на профессиональном спецслужбистском уровне – преимущественно через непрестанную череду последовавших после марта 1953 года доносов, пасквилей и порций грязных помоев друг на друга в ЦК и в прочие надзорные инстанции государства.
Надо особо подчеркнуть, что в советской внешней разведке моего периода службы не так уж много сотрудников было в состоянии обоснованно «похвастаться» тем, что у них на связи находятся настоящие, а не «галочные для годового резидентурского отчета» – проще говоря, фантомные – агенты влияния. Да, каналов оказания нужного влияния на решения политического и военного руководства ряда зарубежных стран у СССР имелось вполне достаточно, но далеко не все они приводились в действие с привлечением агентурных возможностей разведок. Один лишь совместный поход в специально построенную для этих целей финскую баню главного резидента КГБ в Хельсинки в компании с президентом или премьером этой страны давал конечного проку нашему государству во много крат больше, чем десятки и сотни публикаций по нужной тематике в прикормленных советской внешней разведкой СМИ этого региона…
Действительно острое активное мероприятие разведки – это ведь как дуэльный пистолет с одним набоем в стволе: выстрелил, поразил нужную мишень (или же, к несчастью, промахнулся, что тоже бывает) – тут же побыстрее «обрубай концы» и прячь свои достаточно характерные по своей шпионской конфигурации уши, пока за них не ухватилась контрразведка противника. Иначе она тут же, не сходя с места, моментально вычленит использованные для активного мероприятия основной и вспомогательные каналы, вычислит конкретно задействованные механизмы «агентурного влияния» и, в отличие от бытовавшей в тот период достаточно дурной практики советских коллег, долго церемониться с ними не будет – закатает всех скопом в комфортабельную западную тюремную буцегарню всерьез и надолго, чтобы другим идейным или материальным доброхотам было неповадно. Вот у меня, к примеру, имелись неплохие оперативные каналы для оказания влияния на зарубежную аудиторию по целому ряду актуальных проблем, я даже свою первую ведомственную награду получил именно за это, но чистого, рафинированного «агента влияния» на связи не имел ни одного.
Давайте попробуем немного глубже и более пристально разобраться с историей появления на свет знаменитой записки КГБ СССР в ЦК КПСС под названием «О планах ЦРУ по приобретению агентуры влияния среди советских граждан», содержание которой было озвучено В.А.Крючковым на закрытом заседании Верховного Совета СССР 17 июня 1991 года. Эта записка была обнаружена мною в материалах «Особой папки» 1-го отдела Секретариата КГБ СССР, которым я в тот период руководил как заместитель начальника Управления. Причина, по которой я обратил на нее внимание, заключалась в непосредственной причастности к ее составлению Управления «К» ПГУ КГБ СССР (внешняя контрразведка), возглавляемого в тот период генерал-майором О.Д.Калугиным – на копии направленной в ЦК КПСС записки стояли визы начальника ПГУ В.А.Крючкова, вице-адмирала М.А.Усатова (первый заместитель начальника ПГУ, курировавший работу внешней контрразведки) и самого Калугина, свежеиспеченного народного депутата СССР. Выполняя вместе с В.И.Жижиным поручение Крючкова относительно масштабной проверки имеющихся в КГБ СССР материалов, касающихся прежней, «доперестроечной» деятельности целого ряда народных депутатов СССР, по которым отныне и на ближайшее обозримое будущее в связи с их вновь обретенным статусом советского парламентария, строго по закону дальнейшее проведение оперативной работы на прежних основаниях было бы уже невозможным. Требовалось, при необходимости, принятие немалых дополнительных усилий и получение соответствующих санкций «на самом верху», что ярко проявилось в хорошо известном эпизоде с докладом В.А.Крючкова Президенту СССР М.С.Горбачеву подборки оперативных материалов по народному депутату СССР академику А.Н.Яковлеву. Мы тогда вдвоем с Владимиром Ивановичем (добрая ему память!) вычленили из фондов «Особой папки» немалый массив оперативной информации, по которым руководству КГБ СССР предстояло принять санкционированные свыше решения и дать необходимые конкретные оперативные указания в подразделения центрального аппарата и в структуры КГБ на местах.
В.А.Крючков сразу же вспомнил всю историю появления в ПГУ данного оперативного материала, тут же дал необходимые поручения Л.В.Шебаршину, В.А.Кирпиченко и Сергею Михайловичу Г. относительно выяснения возможности его публичного задействования без нанесения оперативного и иного ущерба источнику поступления к нам этой информации. Должен прямо сказать, что прозвучавшие впоследствии «признания» некоторых ветеранов нелегальной разведки относительно их личной причастности к данному документу, являются откровенной выдумкой, либо стремлением выдать желаемое за действительное. Исходные сведения поступили к нам непосредственно от руководителя Министерства госбезопасности ГДР («Штази») Эриха Мильке (вечная и благодарная память Герою Советского Союза, ветерану Коминтерна!) в составе так называемого оперативного подарка – подборки документальных оперативных материалов по многим интересующим советскую сторону вопросам. Вскоре выяснилось, что первоисточник информации находится в зоне гарантированной безопасности и что ее разглашение не нанесет ущерба политическим интересам СССР или оперативным интересам КГБ СССР.
Давайте теперь посмотрим на содержание некоторых положений этого документа, датированного 24 января 1977 года, данного в изложении депутата Государственной Думы ФС РФ, журналиста и писателя А.Е.Хинштейна, приведенного в его книге «Как убивают Россию». Что из себя представляет сам автор этой книги как специалист в сфере журналистского освещения деятельности отечественных специальных служб и местных правоохранительных органов, у меня кое-какие знания и собственное мнение за душой имеются. Но в данном конкретном случае, при всем моем достаточно критичном отношении к нему, депутат не фантазирует «на вольную тему», как он порой это делает в своих многочисленных авторских публикациях в газете «Московский комсомолец», а, по-видимому, отталкивается все же не от простого изложения содержания данной записки, как это сделал до него, к примеру, ветеран органов КГБ Олег Хлобустов и многие другие публицисты, авторы бесчисленных заметок в прессе, а ссылается на текст подлинного документа, предоставленного ему кем-то специально для использования в данной книге. Единственное сомнение на сей счет у меня возникло, глядя на гриф секретности приведенного депутатом документа – «совершенно секретно», хотя до процедуры рассекречивания он имел самую высокую степень секретности «Совершенно секретно. Особая важность», которая была снята Председателем КГБ незадолго до его выступления перед депутатами Верховного Совета СССР.
Итак, пойдем по тексту и проанализируем его некоторые ключевые положения. «По достоверным данным, полученным Комитетом государственной безопасности, в последнее время ЦРУ США … разрабатывает планы по активизации враждебной деятельности, направленной на разложение советского общества и дезорганизацию социалистической экономики». Разложение советского общества (это понятно – идеологические диверсии и прочие зловредные комбинации спецслужб), но здесь еще упомянута и дезорганизация социалистической экономики (sic!).
Где вражеских шпионов и подлых наймитов Запада теперь следовало бы искать в первую очередь, окромя привычной среды «насквозь прогнившей и рефлексирующей советской интеллигенции», которой уже и так с 1967 года очень пристально и предметно занималось 5-е Управление КГБ СССР во главе с Ф.Д.Бобковым? Правильно, главным образом в структурах Совета Министров СССР, Госплана и Госснаба СССР, в ведущих экономико-финансовых министерствах и ведомствах государства, в руководстве базовых предприятий ВПК, в верхушке отечественной науки, в верхних эшелонах набирающих политическую силу консультативных «мозговых центрах» страноведческой направленности типа ИМЭМО и ИСКРАН.
Ну, и много контрразведчики нарыли здесь толкового по своей прямой и непосредственной спецслужбистской части? Как говорил черт, остригая кошку (по другим фольклорным и литературным источникам, приведенным доктором филологии В.М.Мокиенко в научной статье – речь шла все же о стрижке свиньи): «Визга много, а шерсти мало», не правда ли, уважаемые коллеги из контрразведки?
Полноценные, самостоятельные контрразведывательные подразделения системы государственной безопасности в сфере экономики, транспорта и связи (то есть 6 и 4 Управления КГБ СССР) были вновь воссозданы после разрушенной «сталинско-бериевской системы» лишь в 1981-1982 гг. Да и само правовое понятие «экономическая диверсия» (в отличие от существовавшей аж с 1967 года «идеологической диверсии») было и вовсе введено в повседневный чекистский обиход (причем далеко не в полной мере, в крайне урезанном виде и без должного нормативного закрепления) только в начале 1991 года. Это произошло во времена, когда органы КГБ по команде «сверху» были вынуждены всерьез и вплотную заняться проблемой искусственно созданного в стране товарного и денежного дефицита всего и вся – начиная от проблемы скорейшего запуска в работу закупленного под многомиллиардные западные кредиты дорогостоящего импортного оборудования для нефтехимии и металлургии, валяющегося на заднем дворе предприятий под снегом и дождем, и заканчивая выявления инициаторов и авторов искусственных заторов на складах банальных продуктов питания, сигарет, носок и колготок, стирального порошка, зубной пасты и прочего потребительского добра.
Вспомните, кто в тот период написания записки был куратором всей советской экономики? Правильно, по-прежнему неизменный «сталинский нарком» и « bête noire» почти для всего состава тогдашнего Политбюро ЦК Алексей Николаевич Косыгин. Однако, по свидетельству его внука А.Д.Гвишиани, «уже после первого инфаркта в 1976 году он стал другим человеком – из Косыгина-победителя, способного решить любые вопросы, он превратился в больного 76-летнего человека». Вот они, реальные последствия торжества политического курса геронтократии в СССР, когда действительно умный, талантливый и реально мыслящий руководитель советского государства был вынужден вопреки своим собственным желаниям и своей личной воле «героически помирать на боевом посту».
Про достаточно странный случай с опрокидыванием в июле 1978 года в районе его государственной дачи и известного госпиталя Минобороны на старом русле Москвы-реки в подмосковном Архангельском байдарки «Скиф» бывшего чемпиона Ленинграда по академической гребле А.Н.Косыгина я, пожалуй, лучше промолчу. О подобных вещах можно и должно рассуждать, опираясь только на неоспоримые, «железобетонные» факты, а не на предположения, домыслы, гипотезы и пересказы о случившемся, даже если они исходят из весьма компетентных и заслуживающих доверия источников. «Скиф» – это одиночная академическая байдарка для профессионалов. Для того, чтобы она не переворачивалась самопроизвольно и случайно, в ней были дополнительно смонтированы метровые поплавки из пенопласта. В обычной, стандартной ситуации спортсмен, потерявший равновесие, не переворачивался головой вниз, а мог сравнительно легко выпрямиться обычным движением тела. У премьера внезапно случился микроинсульт с кратковременной потерей сознания – и это все, что можно с большей или меньшей уверенностью и с очевидностью сказать. А что послужило непосредственной причиной этому микроинсульту – одному Богу теперь известно…



