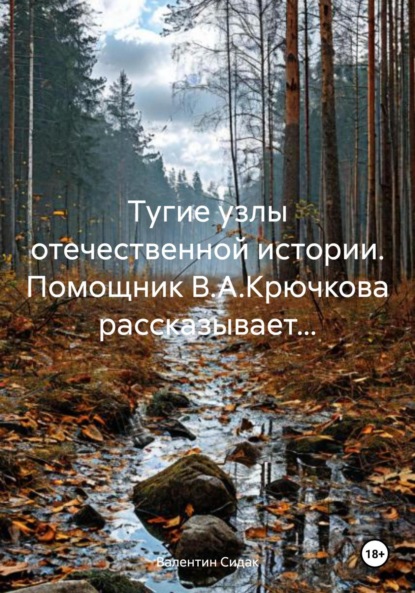
Полная версия:
Тугие узлы отечественной истории. Помощник В.А.Крючкова рассказывает…
Но когда творческий дуэт «дилетантистов» достаточно решительно, стремительно и даже как-то нахраписто полез «вглубь», стал не без умысла затрагивать отдельные пикантные и не всегда доступные для понимания непрофессионалами подробности (в частности, отдельные детали подготовки и осуществления операции «Утка» по ликвидации Льва Троцкого в Мексике), стал более пристально и более внимательно вглядываться в отдельные крайне любопытные страницы биографий Якова Блюмкина, Сиднея Рейли (Шломо Розенблюма), невозвращенца Александра Орлова (Лейбы Фельдбина), начал постепенно приоткрывать завесу таинственности и секретности над некоторыми «боевыми операциями» за рубежом легендарной «спецгруппы Яши» (названной по имени соратника убежденного, идейного террориста-троцкиста Якова Блюмкина другого прирожденного и даже прославленного боевика Якова Серебрянского (Якова Исааковича Бергмана) тот же час с неизбежной очевидностью наружу стал выползать один сакраментальный вопрос.
Вкратце его можно было бы сформулировать так: а с чего бы это вдруг многие непосредственные участники описанных ими событий, известные как явные или скрытые сторонники Льва Давидовича Троцкого (до сих пор рассматриваемого российским обществом как в целом негативная и даже зловещая фигура отечественной истории, несмотря на его не вполне внятную с точки зрения соблюдения требований действующего российского законодательства реабилитацию как «жертвы политических репрессий сталинских времен»), впоследствии все дружной стайкой стали фигурантами так и незавершенного чисто в правовом поле дела «о сионистском заговоре в рядах НКВД и МГБ»? Притом, что некоторые из них пострадали из-за этого обстоятельства очень даже существенно, прежде всего в плане прекращения своей дальнейшей служебной карьеры.
Что такое троцкизм как общественно-политическое явление? В современной интерпретации (см. Большую российскую энциклопедию, автор заметки А.В.Гусев), «ТРОЦКИЗМ, разновидность марксизма, междунар. лево-радикальное идейно-политич. течение, основанное на идеях Л.Д.Троцкого. Сформировался в 1920–1930-е гг. в ходе борьбы левой коммунистич. оппозиции против политики руководства ВКП(б) и Коммунистического интернационала (троцкисты признают решения только 1–4-го его конгрессов). Рассматривает себя как продолжение и развитие подлинного большевизма, ленинизма. Осн. положение – концепция перманентной (непрерывной) социалистич. революции». Выходит, по-своему был прав мудрый русский крестьянин, который в фильме «Чапаев» настойчиво вопрошал красного комдива: «Василий Иванович, а ты за большевиков али за коммунистов?».
Если я адекватно воспринимаю положение дел в современной российской политологии, автором заметки в энциклопедии является один из ведущих отечественных специалистов по истории троцкизма и левой оппозиции 1920–1930‑х годов, доцент кафедры истории политических партий и общественных движений исторического факультета МГУ Алексей Гусев, создатель образной и ставшей крылатой фразы «Для Сталина троцкисты были, как для Гитлера евреи». Вот как он ответил на достаточно провокационный вопрос корреспондента интернет-издания «Использовался ли антисемитский мотив в борьбе с оппозицией?».
«Безусловно. Вожди оппозиции: Троцкий – Бронштейн, Каменев – Розенфельд, Зиновьев – Радомысльский. Очень просто было дать понять, что оппозиционеры – евреи, потому что они выступают за мировую революцию, космополиты, которые не любят русских крестьян. Конечно, не напрямую, антисемитизм в те годы карался как уголовное преступление. Хотя Троцкий цитировал постановление одной из местных ячеек, где призывалось «исключить оппозиционеров из партии, потому что сама их национальность предрасполагает к торгашеству, беспринципности и прочему. Это, конечно, редкий случай, когда такое было написано на бумаге.
Антисемитский аспект борьбы с оппозицией комментировал сам Сталин. Он заявлял: «Мы боремся против оппозиционеров не потому что они евреи, а потому что они оппозиционеры». (Высказывание, которое, по сути, акцентировало национальность главных лидеров оппозиции.) Анекдот того времени: «В чём отличие Моисея от Сталина? Моисей вывел евреев из Египта, а Сталин вывел евреев из Политбюро». (https://vatnikstan.ru/interview/gusev_interview/)
Вообще-то И.В.Сталин по этому достаточно спорному житейскому вопросу высказывался куда более определенно. Из текста его доклада на Пленуме ЦК ВКП(б) 3 марта 1937 года: «Наши партийные товарищи не заметили, что троцкизм перестал быть политическим течением в рабочем классе, что из политического течения в рабочем классе, каким он был 7–8 лет тому назад, троцкизм превратился в оголтелую и беспринципную банду вредителей, диверсантов, шпионов и убийц, действующих по заданию разведывательных органов иностранных государств».
А вот оценка, данная личности и деянием Троцкого писателем Лионом Фейхтвангером в книге «Москва, 1937 год» в главе VII под названием «Ясное и тайное в процессах троцкистов»: «Русским патриотом Троцкий не был никогда. «Государство Сталина» было ему глубоко антипатично. Он хотел мировой революции. Если собрать все отзывы изгнанного Троцкого о Сталине и о его государстве воедино, то получится объемистый том; насыщенный ненавистью, яростью, иронией, презрением. Что же являлось за все эти годы изгнания и является и ныне главной целью Троцкого? Возвращение в страну любой ценой, возвращение к власти».
И еще у него здесь же, в подзаголовке «Троцкий о Троцком»: «Эмиль Людвиг сообщает о своей беседе с Троцким, состоявшейся вскоре после высылки Троцкого на Принцевы Острова, около Стамбула. Эту беседу Эмиль Людвиг опубликовал в 1931 году в своей книге «Дары жизни». То, что было высказано уже тогда, в 1931 году, Троцким, должно заставить призадуматься всех, кто находит обвинения, предъявленные ему, нелепыми и абсурдными. «Его собственная партия, – сообщает Людвиг (я цитирую дословно. – Л.Ф.), – по словам Троцкого, рассеяна повсюду и поэтому трудно поддается учету. „Когда же она сможет собраться?“ – Когда для этого представится какой-либо новый случай, например война или новое вмешательство Европы, которая смогла бы почерпнуть смелость из слабости правительства. „Но в этом случае вас-то именно и не выпустят, даже если бы те захотели вас впустить“. Пауза – в ней чувствуется презрение. – О, тогда, по всей вероятности, пути найдутся. – Теперь улыбается даже госпожа Троцкая». Так отвечает Троцкий на вопрос о том, возможен ли договор между Троцким и фашистами».
Однако наш отечественный писатель и публицист Леонид Млечин видит корень всех бед троцкизма совершенно в другом. В заметке под названием «Троцкий, троцкизм и троцкисты», опубликованной в журнале «Огонёк» по случаю 80-летия гибели Л.Д.Троцкого в Мексике, он приводит один весьма примечательный и, я бы даже сказал, очень характерный для его взглядов пассаж, который вполне заслуживает того, что привести его полностью, без купюр.
«Десятилетия работы пропагандистской машины не прошли даром. Троцкого превратили в воплощение зла. Те, кто считает революцию трагедией, не могут забыть, что под его руководством петроградские большевики взяли власть в Октябре. Коммунисты называют его злейшим врагом революции. Националисты уверены, что он по заданию всемирного масонства уничтожал Россию. В романе «Вечный зов» Анатолия Иванова (он же редактор журнала «Молодая гвардия») германский фашизм предстает всего лишь одной из армий мирового троцкизма, главная и единственная цель которого – уничтожить Россию. Самый гнусный персонаж романа бывший жандарм Лахновский во время Великой Отечественной появляется на оккупированной территории в нацистском мундире и произносит перед своим агентом длинный монолог:
– Кто мы? Вы называете нас до сих пор троцкистами… Вы много болтаете о троцкизме, но не знаете, не представляете, какая это была сила… Какое возмездие ждало Россию!.. Но ваш проклятый фанатизм одолел и эту силу. Запомни: это вам, всей России, всей вашей стране, никогда не простится! Троцкого нет… Его ближайшие помощники, верные его соратники осуждены и расстреляны. Но мы многое успели сделать.
Троцкий, объяснил в романе Анатолий Иванов, не только виновник неудач Красной армии в 41-м, но и вдохновитель растления России:
– После войны мы будем действовать не спеша, с дальним и верным прицелом… Мы будем опошлять и уничтожать главные основы народной нравственности… Мы будем всегда главную ставку делать на молодежь, станем разлагать, развращать, растлевать ее! Мы сделаем из них циников, пошляков, космополитов!.. Как учил, как это умел делать Троцкий…
В романе не хватает только слов о том, что Троцкий – вождь мирового еврейства. В советские годы автор не мог себе этого позволить. Однако же все понятно и без слов». (https://www.kommersant.ru/doc/4457976). Троцкому, конечно, далеко до Моисея в качестве признанного вождя всех евреев, однако в сотню самых выдающихся евреев всех времен и народов он все же попал, как хорошо известно из достоверных израильских источников.
Ну, то, что Л.Млечин уже не одно десятилетие неравнодушно дышит к актуальной на сегодняшний день теме освещения и намеренного подчеркивания роли выдающихся евреев в мировой истории, давно ни для кого не секрет. И лишний раз это подтверждает та намеренная акцентированность внимания читателей на факте редакторства писателя Иванова в «черносотенном» журнале «Молодая гвардия». Но к чему приводить при этом вульгаризованный вариант «доктрины Даллеса» в привязке уже не к проискам «коварного ЦРУ», а к ближайшим послевоенным планам недобитых Сталиным троцкистов? Млечинские просионистские шарады лично мне разгадывать всегда тошно, но уж больно все это смахивает на еще одну «активку» в неустанно продолжающихся попытках добиться полной и безусловной реабилитации Троцкого как «невинной жертвы кровавых сталинских репрессий» в глазах аполитичного российского обывателя.
Могу на все подобные исторические (или истерические) потуги отреагировать так: «Ребята, вы уж либо крестик снимите, либо штаны наденьте». Ибо если все же прав «иудушка Троцкий» со своей идиотской идеей «перманентной революции в мировом масштабе», а не Сталин с его политическим выбором и упором на победу социализма прежде всего в отдельно взятой стране – в СССР, то по характеру современного развития обстановки в мире самым актуальным на сегодня тезисом становится тот, который был пророчески изложен в Библии. Если говорить точнее – в последней книге Нового Завета, более известной под названием «Откровения Иоанна Богослова», повествующей об «апокалипсисе», о конце света, о катастрофе общепланетарного масштаба. Или г-н Млечин и его единомышленники все еще предпочитают наивно полагать, что вожди и адепты идеи «мировой пролетарской революции» как представители самой выдающейся в истории человечества нации непременно должны войти в число 144 тысяч библейских «избранных»?
Так, в органах безопасности СССР огромную роль в возвышении Ягоды сыграла его активность в борьбе с троцкистами. При этом стоит учитывать, что влияние троцкистской оппозиции среди личного состава ОГПУ было очень заметным. Ветеран КГБ СССР историк А.М.Плеханов утверждает, к примеру, что, по подсчетам председателя ОГПУ, во время дискуссии 1923–1924 гг. в аппарате ОГПУ из 551 членов РКП (б) на стороне ЦК были 367 человек, 40 однозначно на стороне троцкистов и еще 129 «колебались». Это, скорее всего, несколько приукрашенная картина. В действительности же, если верить опубликованным мемуарам различных авторов, в разных парторганизациях ОГПУ сторонников Троцкого было никак не менее половины.
Очень выразителен в этой связи рассказ Ф.Д.Медведя о характере дискуссии в Москве. По его словам, троцкисты первоначально вообще добились большинства: «Дзержинскому и другим членам коллегии вообще говорить не давали. Требовали немедленно ввести внутрипартийную демократию, разогнать партийный аппарат. «Долой бюрократов, долой аппаратчиков», – сплошь и рядом кричала ячейка. Пришлось прекратить собрание и перенести на следующий день. Ну, а на следующий день были приняты меры. Во-первых, срочно по прямому проводу вызвали из Ленинграда Зиновьева, затем Феликс особо заядлых крикунов частью изолировал, частью отправил в срочные командировки. На следующий вечер собрание открылось речью Зиновьева. Этот и начал. Говорил четыре часа подряд. Все обалдели, слушая его. Голоснули – и что же? Несмотря на принятые меры, ничтожным большинством прошла резолюция ЦК».
Причины популярности Троцкого среди чекистов того времени вроде бы и очевидны, но все же не вполне обяснимы. Многих, дескать, якобы раздражало отсутствие внутрипартийной демократии. «Где у нас равенство в единой коммунистической партии? На бумаге, в уставе партии. А на самом деле, верхи и низы. Начальники и подчиненные. Верхи обросли на теплых местах и тянут к себе родственников, подхалимов, бюрократов. Везде и повсюду круговая порука. Рука руку моет. Только внутрипартийная демократия даст возможность проявить все недочеты нашей партии и избавиться от них» – вот основные спекулятивные тезисы троцкистов из ОГПУ Как будто в самом аппарате ОГПУ было как то по-другому….
Возвратимся к одной из первых телепередач цикла «Агенты» в захватывающей версии Венедиктова и Кобаладзе. Хаим Гиршевич Блюмкин, духовное и художественное наследие Н.Рериха спустя сорок лет, творческое содружество Е.М.Примакова и поклонницы идей мадам Блаватской Л.В.Шапошниковой из музея Рериха, само дело Рериха из архивов КГБ, Шамбала, басмачи, Сергей Есенин, Розенцвейг (Горская), Исаев (Штирлиц), Вилли Леман (Брайтенбах), какое-то совершенно невообразимое месиво с участием Мишки Япончика (Винницкого), Фроима Грача (Фишмана), Исаака Бабеля и Остапа Бендера, сопровождаемое бодрыми музыкально – разведывательными песнопениями в исполнении дуэта А.Венедиктова и Ю.Кобаладзе – все это, конечно, весьма увлекательно, зрелищно и даже порой забавно. Хотя, если судить по внутренней сути содержимого их повествования, это всего лишь обычная телевизионная бурда, составленная из популярной в народе окрошки с не менее популярным винегретом в качестве оптимальной закуски под традициорнный русский напиток. На мой взгляд, приготовленное ими публицистическое блюдо совершенно несъедобно и, одновременно, мало информативно с точки зрения главной заявленной «Дилетантом» темы повествования – о существовании в Советском Союзе так называемой агентуры влияния.
К примеру, любопытствующей публике из этой глубокомысленной беседы двух выдающихся «знатоков» деятельности отечественных и зарубежных спецслужб будет абсолютно неясно, почему вдруг именно в период «переформатирования» Коминтерна в Коминформ, именно в ходе достаточно скоропалительного превращения этой международной структуры во вновь создаваемое «содружество братских коммунистических партий» в нем тут же, сходу, буквально незамедлительно стали формироваться невиданные ранее возможности для плодотворной работы враждебной СССР агентуры влияния в рамках будущего «мирового коммунистического и рабочего движения».
Прежде всего, через возможности специально созданного позднее в Праге журнала «Проблемы мира и социализма», московского Института международного рабочего движения АН СССР, через образованные в отделах ЦК КПСС группы консультантов и лекторов ЦК, через сформированную аналогичную группу лекторов во Всесоюзном обществе «Знание». Равно как и через резко возросшую индивидуальную активность выходивших непосредственно на лидеров СССР зарубежных дельцов типа Арманд Хаммер или Роберт Максвелл, через чрезвычайно продуктивную деятельность «личных конфидентов Брежнева, Суслова, Пономарева и др.» – связников компартии США, откровенных политических авантюристов (и, одновременно, вполне реальных советских орденоносцев) Морриса Чайлдза (Мойши Шиповского, по другим данным – Чаловского) и его брата Янкеля (Джека).
Причина здесь лежит буквально на поверхности, но ее тщательно обходят стороной и всячески избегают озвучивать публично в силу особой «деликатности» строго табуированной темы особенностей национального состава как основного кадрового звена советской внешней разведки того периода, так и бóльшей части созданного ею агентурного аппарата за рубежом. Лев Давидович Троцкий (Бронштейн) в подобной затруднительной ситуации говорил лаконично, но очень весомо и достаточно определенно: «Я не еврей, а интернационалист». Если все же зря не кривить душой и не елозить попусту тощим задом по шершавой скамейке то ли от смущения, то ли от щенячьего восторга, следует всего-навсего лишь откровенно, правдиво и однозначно признать следующее. Да, он в значительной, если не в подавляющей, мере состоял из этнических евреев и строился отнюдь не на «идейной» – коммунистической, социалистической, анархистской, антиклерикальной, антиимпериалистической, антиколониальной или иной «прогрессивной» основе, как в той же разведывательной структуре Отдела международных связей ИККИ. Где наряду с откровенными авантюристами и искателями острых ощущений действительно были по-настоящему идейно убежденные кадры.
Очень большая (если не основная) часть резидентов и разведчиков, работавших позднее на ИНО ГПУ–ОГПУ и РУ РККА в 20–30-х гг., начинала карьеру разведчиков именно по линии Коминтерна. Р.Зорге, Л.Треппер, Ш.Радо, А.Дейч, И.Григулевич (Григулевичус), В.Фишер, А.Шнеэ и многие другие убежденные сторонники коммунизма стали разведчиками по идеологическим соображениям.
Интересной в этой связи представляется характеристика, данная всем им старшим агентом британской службы МИ-5 Питером Райтом: «Часто они вообще не были русскими, хотя и имели российское гражданство. Они были коммунистами-троцкистами, которые верили в международный коммунизм и Коминтерн. Они работали под прикрытием, часто подвергаясь большому личному риску, и путешествовали по всему миру в поисках потенциальных рекрутов. Они были лучшими вербовщиками и контролерами, которые когда-либо были у российской разведывательной службы. Все они знали друг друга, и вместе они вербовали и создавали первоклассные шпионские сети».
А вот закордонный агентурный аппарат ГПУ-ОГПУ вначале по преимуществу строился на весьма примитивной этпополитической, даже зачастую на самой обыденной земляческой основе, столь характерной для принципов построения организаций и объединений еврейского сообщества во многих зарубежных странах. Тем более, что резидентам ОГПУ-ГПУ за рубежом (прежде всего нелегальным) в тот период было предоставлено право самостоятельно решать вопрос о включении интересующего лица в агентурную сеть разведки, не испрашивая на то разрешения или согласия у Центра, как это стало привычным в более поздние времена НКВД-МГБ-КГБ. Отсюда вытекает и следствие подобного организационно-управленческого решения по очень известной в народе формуле – «каков поп – таков и приход»…
Я никогда не забуду один впечатляющий эпизод из собственной разведывательной практики, когда после проверки по оперативным учетам в 15-м отделе ПГУ мне понадобилось получить подробные данные на одного иностранца, который, судя по известным любому оперативному работнику признакам, должен был состоять в агентурной сети нашей разведки. После ряда мытарств и многочисленных согласований я все же добрался до первоисточника нужных мне сведений. И был поражен, когда вместо привычного пухлого дела агентурной либо оперативной разработки я получил для ознакомления обычный клочок бумаги. Он представлял собой часть фотокопии оперативного отчета резидента в Центр (дело было еще в довоенные времена), разрезанного обычными канцелярсвикми ножницами на отдельные куски. На данном клочке бумаги рукописью было написано ровным счетом следующее: тогда-то и там-то резидент (или его замеситель, не суть важно) провел вербовочную беседу с имяреком, работавшим там-то и тем-то, при этом являвшийся родственником уже какого-то «закавыченного» нами ранее субъекта. И это было ровным счетом все! Но зато на этом отрывке рукописного донесения из-за рубежа (помню это хорошо как сейчас!) прямо поверх текста толстым карандашом красного цвета была начертана резюлюция какого-то высокого начальника – «Включить в агентурную сеть». Более ничего полезного типа: как имярек работал в качестве агента, какие задания выполнял, что сделал нужного для разведки в целом, что получил от нас взамен и пр. не было – только указывался присвоенный ему оперативный псевдоним.
Именно по этой весьма специфической причине позднее стали возможными столь скандальные и катастрофические по своим последствиям провалы, как «совещание резидентов» в феврале 1935 года в Дании, когда датская полиция арестовала в одном из отелей Копенгагена сразу четверых советских разведчиков-нелегалов, находившихся там якобы «проездом», и с добрый десяток завербованных ими агентов. В реально оправданном с точки зрения соблюдения выработанной и подтвержденной документами оперативной легенды их одновременное появление в месте полицейской засады не вызывалось ни малейшей необходимостью! Просто эти кадровые сотрудники являлись руководителями структур советской военной разведки в других странах, в Дании они просто находились проездом и на явочную квартиру зашли лишь затем, чтобы повидаться и пообщаться со своими старыми друзьями.
Датчанам удалось их обнаружить и разоблачить во многом благодаря тому, что руководители т.н. резидентуры связи советской военной разведки в Дании кишиневский еврей Александр Петрович (Израиль Хайкелевич) Улановский и американец Джордж Минк (житомирский еврей Годи Минковский) по прочно укоренившейся привычке вербовали в свою агентурно – осведомительскую сеть местных коммунистов преимущественно из числа подданных Датского королевства еврейской национальности или же еврейского происхождения. Так, дескать, было проще и для целей проверки агентуры, и в целом гораздо надежнее для успеха нашего общего дела «скорейшего становления неизбежного торжества идей коммунизма и пролетарского интернационализма во всем мире»…
В течение первых двух дней датская полиция вначале произвела обыски у Джорджа Минка, затем на явочной квартире Улановского ею была устроена засада. Первым из ожидавшихся «визитеров» в полицейский капкан угодил Давид Угер (Давид Александрович Реми), резидент Разведупра в Германии. Вторым «гостем» оказался Макс Германович Максимов (Максимилиан Фридман), нелегальный резидент Разведупра в Германии, работал там под именем Ганса Грюнфельда (оперативный псевдонима «Бруно»), дальний родственник Иосифа Уншлихта. Еще одной солидной добычей датской полиции стал начальник отделения 1-го (западного) отдела РУ РККА, бывший нелегальный резидент Разведупра в Германии Давид Оскарович Львович. Также в ловушку полиции попал американский юрист-адвокат, один из участников процесса по делу Сакко и Ванцетии Леон Джозефсон (он же Бернард А.Хиршфилд), близкий соратник связника Коминтерна Герхарда Эйслера и его сестры Рут Фишер. Нет необходимости лишний раз подчеркивать, что все вышеупомянутые лица в своем происхождении имели одни и те же этнические корни.
В итоге за очень короткий перод времени советская военная разведка потеряла работника центрального аппарата, трех опытных резидентов и десять проверенных иностранных агентов (двух американцев и восьмерых датчан), а её резидентура связи в Дании прекратила свое существование. И причина здесь была только одна – очевидный местечковый дилетантизм и злостное пренебрежение всеми базовыми принципами конспирации при организации разведывательной деятельности низовых структурных звеньев.
Позднее подобная же история буквально зеркально повторилась в эпизоде с полным крахом бельгийского звена знаменитой «Красной капеллы» (которой на самом деле вовсе не существовало в природе как единой организационной структуры под столь звонким названием) во главе с Леопольдом (Лейб Захаровичем) Треппером («Большой шеф»), Анатолием (Ароном Мордковичем) Гуревичем («Маленький шеф»), Гарри Робинсоном (Арнольдом Шнеэ), помощниками Треппера Лео Гроссфогелем и Хиллелем Кацом, которых он хорошо знал еще по Палестине. Вот что писал в 2004 году сам Анатолий Маркович Гуревич: «13 декабря 1941 года в Брюсселе на конспиративной вилле Треппер, который приехал из Парижа, собрал своих друзей по бывшей резидентуре без моего согласия. На этой же вилле работал радиопередатчик, который выходил в эфир более пяти часов в день, поэтому вилла была запеленгована немецкой контрразведкой. Самому Трепперу удалось избежать ареста».
Опять в этой истории фигурирует какая-то «тайная вечеря» бывших друзей по резидентуре, имеют место какие-то странные ночные посиделки на конспиративной явочной квартире, да еще и в оккупированной немцами стране! А как немцы вышли на эту явочную квартиру разведки? Да все по тому же пресловутому национальному или этническому признаку. Вместе с шифровальщицей Софией (Зосей) Познанской в квартире на улице Атребат, дом 101, поселилась ее подруга, связник Рита Арну (Арнольд), которая была любовницей по сути нелегального амстердамского торговца бриллиантами Исидора Шпрингера и, одновременно, его доверенным лицом по достаточно темным делам этого бизнеса. Что само по себе уже было грубейшим нарушением правил конспирации в разведывательной работе. Но ведь в этой квартире (на вилле) проживали еще и радисты Давид Ками и Иоганн Венцель…



