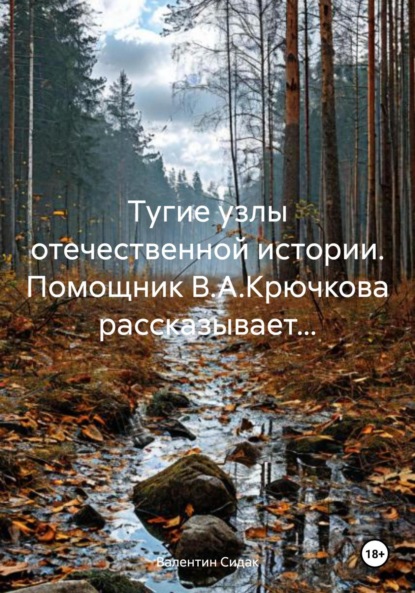
Полная версия:
Тугие узлы отечественной истории. Помощник В.А.Крючкова рассказывает…
Ну, и кого же Ю.В.Андропов привлек в ближайшие союзники в своем стремлении разделить темы милитаризации космоса и практической реализации ядерных планов США в Европе? Естественно, «близкие к СССР» западноевропейские рабочие и коммунистические партии и содружество «прогрессивных ученых» всего мира. Конечно, наиболее авторитетные «еврокоммунисты» Италии, Испании, Швеции и Франции после событий «пражской весны» быстренько показали нам «фигулю на рогуле», продолжая, однако, ежегодно исправно получать от КПСС немалые денежные вспомоществования. А на смену полудохлому хрущевскому изобретению под названием «Советский Пагуошский комитет», созданному Академией наук СССР в 1957 году в качестве национального комитета действительно авторитетного Пагуошского движения учёных, по воле Андропова и с подачи академика Велихова пришла еще одна весьма странная и, в общем-то, совершенно никчемная «международная тусовка» учёных в их борьбе против ядерной угрозы.
В мае 1983 года в Москве состоялась Всесоюзная конференция учёных за избавление человечества от угрозы ядерной войны, за разоружение и мир (с зарубежным участием). На этом форуме был создан Комитет советских учёных в защиту мира, против ядерной угрозы (КСУ), в состав которого было избрано 25 человек, большей частью – академики и члены-корреспонденты Академии наук (АН) СССР и академий наук союзных республик. Председателем КСУ был избран вице-президент АН СССР академик Е.П.Велихов, заместителями председателя первоначально стали академик Р.З.Сагдеев и доктор исторических наук (впоследствии – академик РАН) А.А.Кокошин, вскоре третьим заместителем председателя был избран доктор физико-математических наук С.П.Капица.
Из официальных публикаций российской региональной общественной организации «Комитет учёных за глобальную безопасность и контроль над вооружениями» (так сегодня величают разоруженческое детище Ю.В.Андропова). «За свой «советский» период существования члены и эксперты КСУ внесли большой вклад в поиск решений проблем глобальной безопасности. Среди несомненных достижений КСУ следует, прежде всего, отметить исследование вопросов, связанных с климатическими и биологическими последствиями ядерной войны и космическими противоракетными системами. В этой работе большая заслуга принадлежит советским учёным А.Г.Арбатову, А.А.Баеву, Н.П.Бехтеревой, Е.П.Велихову, А.С.Гинзбургу, А.С.Голицыну, Ан.А.Громыко, В.И.Гольданскому, Ю.А.Израэлю, С.П.Капице, А.А.Кокошину, С.И.Колесникову, С.К.Ознобищеву, Ю.А.Осипьяну, Б.В.Раушенбаху, С.Н.Родионову, Р.З.Сагдееву, Л.П.Феоктистову, А.В.Фокину и многим другим» (http://рос-мир.рф/node/2795).
Ба-а, знакомые все лица… Некоторые из них вполне обоснованно тянут на роль потенциальных агентов влияния стран Запада. Посмотрим на практические итоги их бурной общественно-политической деятельности в рамках КСУ. Вновь процитирую некоторые официальные публикации на этом сайте.
«В рамках КСУ из его членов и экспертов были сформированы различные исследовательские группы. КСУ осуществлял самостоятельные научные разработки стратегического и военно-стратегического характера, в частности, по глобальным климатическим, экологическим и биологическим последствиям ядерной войны, по проблемам, связанным с космическим оружием и по проблемам «замораживания» ядерного оружия. Многие из разработок КСУ носили закрытый характер и широко применялись в практике деятельности советских правительственных, военных и партийных органов, а также в институтах АН СССР. Ряд докладов и разработок КСУ выходил под грифом «для служебного пользования».
Среди докладов, изданных КСУ для использования специалистами, можно назвать «Перспективы создания космической противоракетной системы США и её вероятное воздействие на военно-политическую обстановку в мире» (М., 1983), «Стратегические и международно-политические последствия создания космической противоракетной системы с использованием оружия направленной передачи энергии» (М., 1984), Р.З. Сагдеев, О.Ф. Прилуцкий, В.А. Фролов «Проблемы контроля крылатых ракет морского базирования с ядерными боеголовками» (М., 1988) и др.
При этом КСУ уделял внимание и информированию общественности об опасностях ядерной войны и её последствий. Широкую известность получил ряд научно-популярных изданий КСУ: сборник «Ночь после», посвящённый всем сторонам глобальных последствий ядерной войны, который был издан на английском языке и представлен в 1985 г. на Московской международной книжной ярмарке; заслуженное признание получили вышедшие в 1986 г. сборники КСУ «Климатические и биологические последствия ядерной войны» под редакцией Е.П. Велихова и «Космическое оружие: Дилемма безопасности» под редакцией Е.П. Велихова, Р.З. Сагдеева и А.А. Кокошина; в 1988 г. членом КСУ А.С.Гинзбургом была опубликована книга «Планета Земля в «послеядерную эпоху», переведённая на несколько языков, и др.».
Не знаю, кому как, но мне тематика и направленность большинства упомянутых выше публикаций совершенно не импонирует. Они явно находятся в русле усиленно предпринимавшихся тогда Соединенными Штатами мощных пропагандистских усилий в пользу подтверждения реальности программы «звездных войн», всяческого подчеркивания огромной значимости результатов практического использования ее отдельных элементов в будущей ядерной битве двух мировых сверхдержав. Вот что писалось, к примеру, в статье Е.П.Велихова «О деятельности АН СССР и перспективах работы Комитета советских ученых в защиту мира, против ядерной угрозы»: «Мы встречались и со сторонниками «стратегической оборонной инициативы», в частности с представителями национальных лабораторий, и надо сказать, что эти встречи не были плодотворными. Основной аргумент наших оппонентов, грубо говоря, сводился к следующему: им якобы известно нечто совершенно секретное, что делает наши выводы несостоятельными. Дальнейшие аргументы в пользу «стратегической оборонной инициативы» сводились к следующему: если развитие стратегической обороны не может создать щит, то по крайней мере оно может подорвать экономическую мощь Советского Союза. А.Ф.Добрынин говорил здесь об иллюзиях на этот счет.
Следующий довод наших оппонентов заключался в том, что работы по созданию широкомасштабной космической обороны являются всего-навсего невинным научным исследованием. Этот аргумент разбивается простым анализом взаимодействия Пентагона и конгресса США. Сам размер запрашиваемых Пентагоном сумм говорит, что речь идет уже не об исследованиях, а о разработках. Администрация США подразумевает под этими исследованиями создание полномасштабной системы с математическим обеспечением, системами поиска, нацеливания, поражения, размещением установок в космосе, чтобы выяснить, выполняют ли они ту функцию, ради которой создаются.
Нужно сказать, что исследования такого рода противоречат общепринятому понятию исследования и всем международным договорам, прежде всего Договору 1972 г. об ограничении противоракетной обороны. Кроме того, существует очень крупное внутреннее противоречие: проверить функционирование такой системы невозможно. Ведь проверка в мирных условиях ничего не дает, а в условиях, когда система подвергается полной проверке, возникает дилемма: если эта проверка произойдет, то человечество перестанет существовать, а если ее не будет, мы так и не узнаем, надежна ли система».
Напомню, что в тот период США публично и притом очень громогласно заявляли об имеющихся у американцев намерениях израсходовать в ближайшие 10-15 лет на программу СОИ астрономическую сумму более 2 трлн. долларов! Они без устали изо дня в день повторяли очень расхожий тезис: «Кто владеет космосом, тот владеет миром». На американском телевидении непрерывно крутили рекламные ролики с наглядным показом принципов действия нового оружия против стратегических ракет, где развернутые в недрах космоса новейшие перспективные системы вооружений весьма эффектно уничтожали ядерные боеголовки ракет. В мировом общественном мнении весьма искусно создавалось впечатление, будто американская СОИ если и не сегодня, то уж завтра наверняка будет создана, и тогда всем недругам США действительно станет туго. Следует признать, что тщательно продуманная и великолепно срежиссированная реклама-«страшилка» в конечном итоге все-таки сработала, и высшее руководство СССР хотя и не сразу, но все же стало рассматривать СОИ как главную угрозу безопасности страны и как вполне реальную попытку подрыва общей стратегической стабильности в мире.
Приведу пассаж из упомянутой мною книги «Космическое оружие. Дилемма безопасности»/ под ред. Е.П.Велихова, А.А.Кокошина, Р.З.Сагдеева, М.: Мир, 1986, цит. по научной работе "Как готовился "асимметричный ответ" на "Стратегическую оборонную инициативу" Р. Рейгана. Велихов, Кокошин и другие". Ее авторами являются один из участников разработки концепции советского "асимметричного удара" кандидат исторических наук журналист С.К.Ознобищев, бывший заместитель секретаря Совета Безопасности РФ, в советское время – начальник штаба 5-й Общевойсковой армии, генерал-полковник в отставке В.Я.Потапов и бывший командующим войсками Прикарпатского военного округа генерал-полковник в отставке В.В.Скоков (https://ruskline.ru/analitika/2012/08/14/kak_gotovilsya_assimetrichnyj_otvet_na_strategicheskuyu_oboronnuyu_iniciativu_rrejgana/; https://topwar.ru/1175-assimetrichnyj-otvet.html). Исследовательская группа, как мы видим, внешне очень солидная и достаточно представительная.
«27 марта 1983 г. министр обороны США Каспар Уайнбергер учредил, основываясь на рекомендациях специального комитета, Организацию по осуществлению СОИ (SDIO) во главе с генерал-лейтенантом Джеймсом Абрахамсоном. Были определены направления, по которым должны идти исследования. Речь, в частности, шла:
о разработке приборов для обнаружения, сопровождения, селекции и оценки степени поражения стратегических ракет в любой из фаз их полета на фоне ложных целей и помех;
о разработке ракет-перехватчиков стратегических МБР и БРПЛ другой стороны;
об исследованиях в области создания различных разновидностей оружия, в том числе направленной передачи энергии (лучевого оружия);
о создании развернутых в космосе спутников-перехватчиков МБР и БРПЛ;
о разработке качественно новых систем управления и связи;
о создании электромагнитных пушек;
о разработке более мощной по сравнению с космическим кораблем «Шаттл» транспортной космической системы.
Вскоре принятая руководством США ниокровская программа начала интенсивно реализовываться, особенно в части всякого рода демонстрационных испытании».
Компоненты «асимметричной стратегии» советской стороны разрабатывались в ряде научно-исследовательских центров страны – как в Академии наук СССР, так и в ведомственных НИИ (среди последних особо следует отметить разработки ЦНИИмаш Министерства общего машиностроения СССР во главе с Ю.А.Мозжориным и В.М.Суриковым; ЦНИИмаш при этом тесно взаимодействовал с 4-м ЦНИИ Минобороны, рядом других научно-исследовательских институтов МО СССР, а также с институтами АН СССР).
Концепция «асимметричного ответа», а тем более конкретные программы этого плана реализовывались, преодолевая большие препятствия, ибо в нашей стране сложилась традиция преимущественно симметричных действий, действий «острие против острия». И эта традиция во всей полноте проявила себя тогда, когда в СССР дебатировался вопрос о том, как отвечать на рейгановские «звездные войны».
Сущность «асимметричного ответа» сводилась прежде всего к тому, чтобы в самых тяжелых условиях, при развертывании США многоэшелонированной противоракетной обороны с использованием разнообразных, в том числе упомянутых «экзотических» средств противоракетной обороны (включая различные виды оружия направленной передачи энергии – ускорители нейтральных частиц, лазеры на свободных электронах, эксимерные лазеры, рентгеновские лазеры и пр., электродинамические ускорители массы (ЭДУМ) – «электромагнитные пушки» и др.). обеспечить возможность советским ракетно-ядерным средствам в ответном ударе нанести «неприемлемый ущерб» агрессору, тем самым убедив его отказаться от упреждающего (превентивного) удара. (Вопрос о превентивном ударе – это «проклятый» вопрос баланса сил, писал в 1990 г. в одной из своих записок академик Ю.А.Трутнев) Для этого рассматривались самые разнообразные сценарии массированного применения Советским Союзом ракетно-ядерного оружия первым с попыткой максимально действенных обезоруживающих и «обезглавливающих» ударов, выводящих из строя прежде всего стратегические ядерные средства США и их систему управления. Важную роль при этом играло моделирование с использованием ЭВМ.
Видную, если не главную, роль в принятии решения в конечном итоге в пользу формулы «асимметричного ответа» сыграла группа советских ученых во главе с крупным физиком-ядерщиком, вице-президентом Академии наук СССР Евгением Павловичем Велиховым, курировавшим в то время по академической линии в числе прочих вопросов фундаментальные и прикладные исследования в интересах обороны. Открытой частью этой группы был созданный Велиховым (по одобрению высшего руководства СССР) Комитет советских ученых в защиту мира, против ядерной угрозы – сокращенно КСУ».
И что же установили эксперты КСУ? А вот что: «Проведенное рабочей группой Комитета советских ученых в защиту мира, против ядерной угрозы, комплексное исследование ряда научно-технических, военно-стратегических и международно-политических аспектов создания широкомасштабной системы ПРО США с элементами космического базирования, потенциального воздействия развертывания такой системы на устойчивость военно-стратегического равновесия, паритет и международную безопасность позволяет сделать некоторые выводы.
Такая система явно не способна, как это утверждается ее сторонниками, сделать ядерное оружие «бессильным и устаревшим», обеспечить надежное прикрытие территории США, а тем более их союзников в Западной Европе или в других районах мира. Отнюдь не будут способствовать повышению устойчивости военно-стратегического равновесия и различные ограниченные варианты противоракетной системы. Поэтому концепция безопасности, достигаемой, предположительно, путем развертывания новых военно-технических средств и прежде всего противоракетных систем, на деле не позволяет выбраться из ядерного тупика. Более того, реализация этой концепции сделает ядерную войну более вероятной. В свете этого стремление США к созданию широкомасштабной противоракетной системы может быть расценено нами только как стремление использовать свой научно-технический потенциал для достижения военного превосходства.
С учетом наличия у Советского Союза огромного экономического и научно-технического потенциала, богатого исторического опыта, в том числе по сохранению примерного военно-стратегического равновесия, беспочвенны и не столь открыто рекламируемые, но явно преследуемые правительством Соединенных Штатов надежды на получение путем создания и развертывания такой системы сколько-нибудь значимых в политическом, а тем более в военно-стратегическом отношении преимуществ над СССР и его союзниками.
Нереальны надежды некоторых американских политиков и на «экономическое изматывание» Советского Союза в результате навязываемой ему гонки космических вооружений параллельно с ускорением ее в области ядерных и обычных вооружений. Один из основных выводов анализа, проведенного группой членов и экспертов Комитета советских ученых в защиту мира, против ядерной угрозы, состоит в том, что у Советского Союза имеется широкий спектр возможных и доступных, сравнительно недорогих мер и средств противодействия новой угрозе безопасности СССР и его союзников, создаваемой развертыванием широкомасштабной противоракетной системы с целью использования ее как средства обеспечения безнаказанного первого удара.
Проведенная в Комитете советских ученых углубленная системно-аналитическая проработка вопроса о мерах и средствах противодействия ПРО показывает, что стоимость комплексной системы мер и средств противодействия широкомасштабной системе ПРО с элементами космического базирования в некоторых вариантах может составить всего несколько процентов от стоимости такой системы. Некоторые другие варианты и комбинации средств нейтрализации и подавления противоракетной системы выглядят более дорогостоящими, особенно с учетом мер по повышению их устойчивости относительно первого удара другой стороны. Однако в любой комбинации средства противодействия неизменно оказываются по крайней мере в несколько раз менее дорогостоящими по сравнению с планируемой Соединенными Штатами широкомасштабной противоракетной системой. К тому же такие средства в совокупности значительно менее уязвимы и намного более стабильны как система, нежели широкомасштабная система ПРО с космическим оружием (хотя бы с отдельными элементами космического базирования).
Таким образом, если, вопреки Договору по ПРО и другим международно-правовым нормам, наперекор мнению большинства ученых мира и протестам международной общественности здравый смысл у руководящих политических, военных и промышленных кругов Соединенных Штатов не возобладает и они все же пойдут по пути создания и развертывания оружия «звездных войн», у Советского Союза найдутся разнообразные возможности по обеспечению своей безопасности в этих новых условиях, по сохранению сложившегося в мире военно-стратегического паритета. При этом, как неоднократно подчеркивало советское политическое и военное руководство, наша страна никогда не пойдет путем, навязываемым ему авантюристическими кругами США, и ответ СССР не будет симметричным».
С позиции обеспечения эффективности внешнеполитической пропаганды того периода получилась вполне съедобная научная стряпня, а вот с точки зрения реальной политики это, скорее, «детский сад, штаны на лямках». Приведу соответствующую обсуждаемой теме оценку из книги А.Ф.Добрынина «Сугубо доверительно [Посол в Вашингтоне при шести президентах США (1962-1986 гг.)».
«1985 год начался встречей Громыко и Шульца 7-8 января в Женеве. Они рассмотрели вопрос о предмете и целях предстоящих советско-американских переговоров по ядерным и космическим вооружениям. Политбюро на своем заседании обсудило инструкции для встречи Громыко с госсекретарем США. Заседание вел Горбачев, который ввиду обострившейся болезни Черненко все чаще председательствовал на заседаниях Политбюро.
Если Рейган продолжал упрямо держаться за свою космическую программу, то Горбачев к этому времени убедил себя и других членов советского руководства в том, что необходимо обязательно сорвать эту программу. Столкновение этих двух противоположных идей фикс стало во многом определять характер всех последующих советско-американских переговоров по проблемам стратегической безопасности. При этом оба руководителя, и Рейган, и Горбачев, были столь глубоко вовлечены в споры вокруг СОИ, что, по существу, преувеличивали ее реальные возможности.
Так или иначе, Громыко получил твердые инструкции: добиваться максимально четкой формулировки цели переговоров по космосу, чтобы не допустить создания космических вооружений, и при этом взаимно увязать ход рассмотрения на будущих переговорах как космических, так и ядерных вооружений. Американцы должны не уходить от обсуждения вопросов по космосу и не заниматься лишь интересовавшими их вопросами сокращения стратегических ядерных вооружений».
Вот вам наглядная иллюстрация, своеобразная квинтэссенция советского подхода к «внешнеполитическому блефу» Рональда Рейгана под названием «Стратегическая оборонная инициатива»! Равно как и к реальному восприятию тогдашним советским руководством существа талантливо проведенного американской дипломатией и специальными службами США комплексного активного мероприятия, главной целью которого было взваливание на плечи СССР непомерной для него ноши в условиях крайне ослабленной, фактически идущей «вразнос» экономики страны Советов. Опять на авансцене главный разрушитель СССР М.С.Горбачев, «немощный и убогий» К.У.Черненко, слегка подурневший от надвигающего старческого маразма «Мистер Нет» А.А.Громыко и «очень мудрый и прозорливый» секретарь ЦК КПСС по международным делам, бессменный на протяжении целых 23 лет советский посол в США А.Ф.Добрынин, лепший приятель и личный конфидент небезызвестного Генри Киссинджера (см. журнал «Новая и новейшая история, № 5, 2006, C. 108-138). На которого, кстати, в ПГУ КГБ СССР оперативных материалов скопилось ничуть не меньше, чем на его бывшего соседа в Канаде совпосла А.Н.Яковлева…
Приведем высказывание самого А.Ф.Добрынина. «Эта встреча положила начало функционированию конфиденциального канала между высшим руководством обеих стран, который бесперебойно действовал в течение почти шести лет. Мы регулярно завтракали или обедали наедине, то у меня, то у него, но чаще я сам ездил к Киссинджеру, пользуясь служебным входом Белого дома. Встречи с ним в Белом доме проходили или у него в кабинете, недалеко от кабинета президента, или – когда начались длительные переговоры с ним по Вьетнаму и вопросам ограничения стратегических вооружений, – в тиши импозантной комнаты, откуда в годы войны президент Франклин Рузвельт выступал с радиообращениями к своему народу. Впоследствии, по решению президента, по мере того, как наши контакты участились, став почти ежедневными, была проведена прямая тайная телефонная линия между Белым домом и посольством, пользоваться которой могли только Киссинджер и я (без набора номеров, просто поднимая трубку).
Советскому руководству конфиденциальный канал гарантировал быстрый и надежный способ связи с президентом США. Его секретность обеспечивалась общей системой особой секретности деятельности Политбюро. Никсону и Киссинджеру этот канал позволял в ряде случаев избегать давления со стороны конгресса и общественного мнения, которые не знали о переговорах по этому каналу. Белый дом при Никсоне стал не только разрабатывать политику, но и непосредственно осуществлять ее.
Оглядываясь назад, могу уверенно сказать, что без такого канала и его конфиденциальности не были бы достигнуты многие ключевые соглашения по сложным и противоречивым вопросам, не снималась бы оперативно опасная напряженность. Берлин, Куба, Ближний Восток, основные соглашения по ограничению стратегических вооружений, наконец, все деликатные переговоры по подготовке встреч на высшем уровне – все это шло через конфиденциальный канал.
Так начались наши уникальные отношения с администрацией Никсона-Киссинджера. Мы были одновременно и противниками, и партнерами по сохранению мира». (https://biography.wikireading.ru/149745)
В результате многолетних закулисных манипуляций обеих сторон на встрече 1985 года в Женеве министр иностранных дел СССР Андрей Громыко и госсекретарь США Джордж Шульц вначале пришли к соглашению, что переговоры по «евроракетам» будут проводиться отдельно от переговоров по космическим вооружениям. Затем Москва ввела в одностороннем порядке мораторий на развертывание ОТР-23 (это новейший советский оперативно-тактический ракетный комплекс «Ока», талантливая и очень перспективная разработка Коломенского конструкторского бюро машиностроения под руководством С.П.Непобедимого) в Чехословакии и ГДР. А уж на встрече в Рейкьявике 10–12 октября 1986 года Горбачев и вовсе предложил «широкомасштабное сокращение ядерных вооружений, но только «в пакете» с отказом США от СОИ». Поскольку договориться об общем ракетно-ядерном разоружении не удалось, стороны решили начать с наиболее острой проблемы – с ракет средней дальности в Европе. При этом СССР согласился «разблокировать пакет» и вести переговоры по РСД отдельно от СОИ.
В результате подписания в 1987 году Договора РСМД с советской стороны было уничтожено 1846 РСМД: 889 РСД (654 РСД-10 «Пионер», 149 Р-12, 6 Р-14, 80 КРНБ РК-55) с 587 пусковыми установками для них и 957 РМД (718 ОТР-22 и 239 ОТР-23) с 238 пусковыми установками для них, а также 74 ракетные операционные базы. С американской стороны были уничтожены находившиеся в ФРГ, Великобритании, Нидерландах, Бельгии, Италии и США 846 РСМД, в том числе 677 РСД (234 «Першинг-2», 443 КРНБ «Грифон») с 288 пусковыми установками для этих ракет и 169 РМД «Першинг-1А», а также 9 ракетных операционных баз.
По моей сугубо личной оценке, общая политическая, экономическая и дипломатическая победа Запада здесь очевидна. Европейский компонент стратегического наступательного оружия, угрожающего СССР, в виде «независимых» британских и французских «ядерных триад» по-прежнему остался существовать в неизменном виде, а вот возможный ответ на него в форме советских ракет средней дальности (РСД-10 «Пионер») и малой дальности (ОТР-23 «Ока») был поставлен под вопрос. На что их тогда променяли? На пропагандистскую «программу звездных войн».
Да, в ходе широко развернувшихся тогда исследований и опытно-конструкторских работ по новым видам советских «истребителей спутников» было обеспечено немало перспективных «заделов на будущее», начата широкомасштабная программа по созданию сверхмощных носителей типа «Энергия», космических челноков типа «Буран», боевых лазеров наземного, воздушного и космического базирования, а также многое, многое другое. Но вся беда заключалась в том, что ввиду хорошо отлаженной в США системы «технологий двойного назначения» (военного и гражданского) деньги американских налогоплательщиков не «вылетали в трубу» целиком и безвозвратно практически никогда, причем при любом исходе перспективных исследовательских работ, а у нас все это происходило сплошь и рядом. Попытки «пристроить» к полезному делу на гражданке советские военные разработки зачастую заканчивались плачевно – как правило, выпущенная с использованием самых передовых «ноу-хау» и новейших научных изобретений продукция оказывалась неконкурентоспособной не только на мировых, но и на внутреннем рынке страны. Во многом главной помехой во внедрении «на гражданке» военных разработок служила пресловутая «секретность», далеко не всегда оправданная с точки зрения общих экономических интересов страны…



