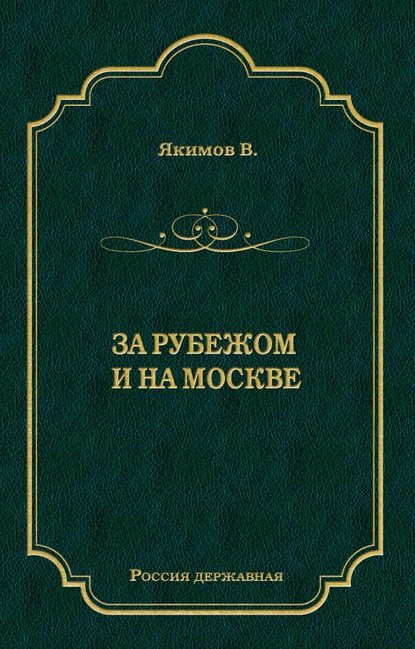 Полная версия
Полная версияЗа рубежом и на Москве
– Это как вздумает наш посланник.
– Вам необходимо видеть нашего великомилостивейшего короля?
– Да. У нашего посланника есть к нему грамоты.
Разговор дальше велся некоторое время относительно этого предмета. Вино не застаивалось в стаканах, и следующая бутылка замещала место предыдущей. Оба собеседника видимо начинали хмелеть.
– Эх, друг мой, – произнес Гастон, – вот мы здесь с вами пьем и шутим, а на душе у меня очень невесело.
Яглин, взглянув на него, спросил:
– Могу я узнать, что за причина такой грусти?
Собственно, он уже догадывался, в чем тут дело, но ему хотелось это услышать из уст Гастона.
– Вам я могу сказать, – ответил последний, – так как вы – человек, не заинтересованный здесь. Да и к тому же вы – иностранец. Другому я не сказал бы этого.
И, помолчав несколько времени, он стал рассказывать.
* * *Гастон де Вигонь принадлежал к старинному дворянскому роду провинции Гасконь, бывшей столь же древней, сколь и бедной. Когда ему исполнилось двадцать лет, старик отец призвал его к себе, подал ему кошелек с деньгами, указал на старинную родовую шпагу с портупеей, висевшую на стене, и сказал:
– Вот тебе шпага и деньги. Иди на конюшню, выбери там себе лошадь, садись и поезжай. Здесь я тебе больше ничего не могу дать. А тебе надобно увидать свет и пробить себе в жизни дорогу. Поезжай в Байону. Там губернатором наш дальний родственник, маркиз Сен-Пе, который в прошлом очень многим обязан мне. Он не откажется дать тебе дело и поможет в будущем.
Гастон поцеловал отца, сел на лошадь и поехал в Байону.
Маркиз Сен-Пе признал свое, хотя и отдаленное, родство с ним и устроил Гастона офицером в гарнизон города Байоны.
Расторопный, умный и сильный офицер с течением времени сумел настолько расположить к себе «дядю», как он называл маркиза, что тот сильно привязался к нему и обещал оставить его наследником всего своего состояния, если он не будет выходить из его воли. Таким образом для бедного молодого гасконца открывалась впереди блестящая будущность.
Но тут случилось одно обстоятельство, заставившее офицера сильно призадуматься и немало поразмышлять, по какой идти дороге.
Однажды утром он явился в губернаторский дом и сказал:
– Дядя, я пришел просить у вас позволения жениться.
– Жениться? – с удивлением произнес маркиз Сен-Пе. – На ком?
– На дочери знаменитого доктора Вирениуса.
Маркиз подумал несколько времени и затем, отрицательно мотнув головой, сказал:
– Не слыхал о такой знаменитости. Да это, впрочем, все равно. Жениться ты на ней не можешь: дочь какого-то цирульника тебе, дворянину, – не пара.
Гастон вспыхнул:
– Он – не цирульник, а очень известный и искусный врач. А она – девушка, достойная любви всякого дворянина и кавалера.
– Все равно, – спокойно сказал маркиз. – Она тебе – не пара.
– А если я все-таки женюсь на ней?
– Несмотря даже на мое несогласие? В таком случае я лишу тебя своего наследства, вышлю из Байоны и постараюсь, чтобы ты не был принят снова в королевские войска.
Этого Гастон, во всяком случае, не ожидал. Конечно, хороши любовь и жизнь с любимой женщиной, но утрата карьеры и богатства представляла тоже своего рода лишение, подвергнуться которому бедному дворянину вовсе не хотелось.
– Хорошо, дядя, я подумаю, – сказал он.
– Советую. Свое решение я менять не намерен. Так это и знай.
* * *– Вот теперь вы и войдите в мое положение, господин московит, – продолжал Гастон. – Я люблю эту девушку и в то же время дядя запрещает мне это, грозя лишить наследства и повредить моей будущности.
«Тут, оказывается, то же, что и у нас, на Москве, – подумал Яглин, – без согласия старших и не думай решить свою судьбу. Вот она – Еуропа-то!»
– Скажите мне, как бы вы поступили в этом случае? – спросил его офицер.
– А вы очень любите ее?
– Да, люблю.
– Если бы я был на вашем месте, то не посмотрел бы ни на какого дядю и женился бы на любимой женщине, – сказал Яглин. – У нас, на Москве, в таких случаях иногда дело решают увозом, несмотря ни на какие угрозы со стороны старших.
Офицер задумался. По его лицу было видно, что в его душе боролись любовь и боязнь за будущее.
– А вы подождите, – посоветовал Яглин. – Быть может, ваш дядя примирится с этим и разрешит вам жениться.
– Тогда будет уже поздно: она в скором времени уезжает вместе с отцом в Париж.
Что-то кольнуло в сердце Яглина.
– В Париж? – переспросил он.
– Да. Оттуда, кажется, он хочет ехать в германские земли, ко двору какого-то князя, который пригласил его быть его доктором.
У Яглина еще более защемило на сердце от сладкой боли.
«А вдруг мы вместе поедем?» – подумалось ему, и какие-то неясные надежды на будущее стали закрадываться в его сердце…
Гастон все более и более хмелел. Яглин узнал уже достаточно о том, что его интересовало, и решил, что пора уходить. Он поднялся и, простившись с де Вигонем, вышел на улицу.
Но домой он возвратился не тотчас же и еще часа два ходил по улицам города с какими-то смутными мечтами и неясными надеждами.
XVII
На другой день Роман почувствовал, что его кто-то трясет за плечо. Он открыл глаза и увидел над собою лицо Игнатия Потемкина.
– Вставай, Роман, вставай! – говорил последний испуганным голосом. – Да проснись же ты, медведь этакий!
– Что случилось? – спросил Яглин, наконец проснувшись.
– Отец захворал. Мечется да бредит все что-то. Мы с Румянцевым голову потеряли, не знаем, что и делать. Лекаря хоть, что ли бы.
– Можно на него взглянуть-то? – спросил Яглин.
– Идем, идем. Он никого теперь не узнает. Должно быть, горячка.
Яглин пошел с ним к той комнате, которую занимал Потемкин. Перед нею толпились челядинцы и толковали о болезни посланника.
– Не дай Бог помереть на чужой стороне, – разглагольствовал подьячий, размахивая руками. – Ни за что такого и в рай не пустят.
Яглин и Игнатий вошли в комнату, где нашли одного из священников посольства, отца Николая. Возле него стоял растерянный Румянцев и тупо глядел на лежавшего на постели посланника. Лицо последнего было красно, глаза закрыты, а рот полуоткрыт, и из него порой вылетали какие-то неясные звуки и хрип.
– Отходную, видно, пора прочитать, – сказал священник.
Яглин, оглянувшись на него, возразил:
– Ну, отходную-то, кажись бы, и рано читать! А вот что лекаря позвать бы надо, так это вернее будет.
– Еще чего выдумаешь! – ворчливо сказал священник. – Православного человека да басурман какой-нибудь будет лечить.
– Ну, чего ты, отец Николай, толкуешь-то? – сердито сказал на это Яглин. – А на Москве-то у нас что? У самого царя разве нет иноземных лекарей в Аптекарском приказе? И сам он у них лечится, и ближние бояре также.
– Да где же здесь лекаря-то возьмешь? – жалобным голосом сказал Румянцев.
– Я знаю, – сказал Роман Андреевич. – Сейчас пойду и приведу сюда.
И он быстро выбежал из комнаты.
На дворе он увидел оседланную лошадь, вскочил на нее и понесся по улицам к тому дому, где вчера видел разговаривающими Гастона и Элеонору. Он соскочил с коня, привязал его к росшему вблизи дереву и, подойдя к двери, на которой висел деревянный молоток, ударил им.
Через минуту дверь отворилась, и на пороге показалась одетая в домашний костюм Элеонора.
Теперь Яглин мог лучше рассмотреть ее, чем в первый раз, и не мог не воскликнуть про себя:
«Ну и красавица же, прости, Господи!»
А Элеонора, видя, какое впечатление она произвела на молодого московита, стояла молча и улыбалась, глядя на него, в смущении перебиравшего концы своего кушака.
– Какой случай привел вас сюда? – наконец спросила она, протягивая Роману свою белую, точно выточенную из мрамора руку. – Ведь мы, кажется, с вами знакомы?
Яглин снял свою шапку и поклонился ей.
– Да, мы знакомы, – сказал он. – Благодаря вам мы были спасены от смерти, которой нам грозила чернь.
– Но что же вы стоите? – спохватилась девушка. – Вы, быть может, по делу?
Яглин все это время стоял, не спуская глаз с «гишпанки». После ее вопроса он очнулся и вспомнил, зачем пришел.
– Да, да, – сказал он. – Я пришел к вам по делу: наш посланник захворал, и ему требуется лекарь.
– Тогда это к моему отцу, – произнесла «гишпанка», сходя с порога и движением руки приглашая Романа войти в комнаты. – Он дома.
Яглин вошел вслед за нею.
Пройдя еще одну комнату, они очутились перед высокой дубовой дверью, которая вела в комнату самого Вирениуса. «Гишпанка» притворила немного дверь и произнесла:
– Отец, пришли звать тебя к больному.
И она распахнула перед Яглиным дверь.
Молодой московит вошел в комнату.
Последняя представляла собой точную копию кабинета вообще всех врачей или алхимиков того времени. Посредине находился большой стол, заставленный склянками различной величины и формы, колбами, ретортами, перегонными кубами, стаканами, чашками. В углу стояли человеческий скелет и костяк какого-то животного. В другом углу был горн с медным перегонным кубом. На другом столе были навалены книги, рукописи и свитки, некоторые в тяжелых переплетах из телячьей кожи, с медными застежками. Вдоль задней стены высился большой шкаф со множеством ящиков, заключавших в себе различные лекарственные коренья, листья, цветы и другие лекарства.
За столом, стоявшим посредине, сидел в кожаном кресле высокий человек, одетый в черный костюм с гофрированным белым воротником и в небольшой четырехугольной черной шапочке. У него были длинная черная с проседью борода, орлиный, крючковатый нос и густые черные брови, из-под которых пристально смотрела пара черных глаз.
В ответ на слова дочери он поднял голову и молча стал смотреть на вошедшего Яглина.
– Я к вашей милости, – сказал последний, поклонившись Вирениусу. – Наш посланник захворал. Не будете ли вы добры посмотреть на него?
– Посланник царя московитов? – быстро спросил Вирениус и, обернувшись к дочери, отрывисто сказал: – Элеонора! Плащ!
Девушка, видимо привыкшая к этому, уже подавала ему толстый суконный плащ черного цвета и кожаную сумку с набором инструментов.
Вирениус накинул на себя плащ, взял под мышку сумку и вышел с Яглиным на улицу. Последний отвязал лошадь и предложил доктору сесть на нее, что тот и сделал.
Роман оглянулся назад. Там, в дверях, стояла Элеонора, облокотившись одной рукой о дверь, и пристально смотрела на молодого московита. Яглин поймал этот ее пристальный взгляд и почувствовал, как у него по спине заползали мурашки. Затем, поклонившись девушке, он взял за повода лошадь и быстро пошел рядом с нею.
Когда они очутились в гостинице, где остановилось посольство, Яглин ввел Вирениуса в комнату Потемкина, и врач подошел к лежавшему на постели посланнику. Он взял руку последнего, послушал пульс, потом пощупал голову и произнес:
– Прилив к голове дурной крови. Необходимо извлечь ее.
Он распорядился, чтобы подали таз, засучил рукава и, вынув из сумки флиц, приставил его к темневшей около запястного сустава вене. Затем он ударил по флицу небольшим деревянным молоточком – и в таз брызнула струя темной крови.
Русские, стоявшие возле, отшатнулись, когда брызнула кровь, а священник даже отплюнулся в сторону.
– Вишь, нехристь, – проворчал он про себя, – православную кровь как воду льет. Точно руду у лошади мечет.
Когда крови вытекло стакана два с лишним, Вирениус ловко зажал отверстие, откуда она лилась, и тем прекратил истечение.
В это время Потемкин открыл глаза и взглянул мутным взором на склонившегося над ним лекаря.
– Вот и хорошо! – крикнул последний. – Теперь дело на лад пойдет, раз он открыл глаза.
– Что со мной? – слабым голосом спросил Потемкин.
– Тш-ш… – сказал лекарь. – Теперь нельзя говорить. Ему надо одному остаться, – строго добавил он, взглянув на челядинцев, все еще остававшихся в комнате.
– Пошли вон отсюда, хамы! Чего рты-то разинули да ворон считаете? – закричал на них Румянцев и принялся выталкивать в шею челядинцев, не скупясь на тумаки и зуботычины, к которым те, впрочем, привыкли.
В комнате остались только Потемкин, Вирениус, Румянцев, Яглин и Игнатий.
– Кто это? – спросил слабым голосом посланник, глядя на Вирениуса.
– Это – лекарь, Петр Иванович, – ответил Яглин.
– Да разве я болен?
– Да ты, Петр Иванович, совсем без памяти лежал, – сказал Румянцев. – Я уже думал, что тебе карачун совсем и мне без тебя посольство придется править.
Упоминание о посольстве, в связи с недоверчивостью и недоброжелательством к своему дьяку, привело Потемкина в себя.
«Ишь, змея! – подумал он про себя. – Видно, охота сделаться посланником. Рад был бы, если бы я помер. Постой же, ирод-христопродавец, вот назло тебе выздоровлю. Выкусишь шиш…»
Он энергично повернулся на своей постели, но тотчас же застонал.
– Скажите ему, что двигаться нельзя, – сказал Вирениус, обращаясь к Яглину.
Роман перевел это Потемкину.
– Ну, коли нельзя, так и не стану, – согласился посланник. – А ты скажи этому лекарю, чтобы он скорее поднял меня на ноги. Хворать мне долго нельзя, потому у меня на руках великое государево дело. Да и посольству заживаться на одном месте невозможно.
– Врач – не Бог, – сказал на это Вирениус. – Он – только слуга природы. Лечит природа, а врач только помогает ей.
– Э, ну его! – отмахнулся на это рукой Потемкин. – Кабы на Москве это случилось, так послал бы за бабкой какой-нибудь, та отчитала бы, попоила бы какой-нибудь травкой, и я скоро на ногах был бы.
– Ну, теперь мне пока здесь делать нечего, – сказал Вирениус. – Пошлите со мною кого-нибудь, и я пришлю для больного лекарство.
У Яглина опять сладко защемило сердце – и он сказал, что сам поедет с лекарем за этим лекарством. Нечего и говорить, что тут была задняя мысль – опять увидать «гишпанку».
XVIII
Вирениус и Яглин шли всю дорогу, не говоря ни слова. Лекарь был погружен в свои думы и, казалось, не был расположен разговаривать. Войдя в свой дом, Вирениус снял с себя плащ и затем вошел в свою комнату.
Яглин озирался кругом и, казалось, кого-то высматривал.
– Войдите сюда, – произнес лекарь, видя, что Роман стоит на одном месте.
Яглин вошел в знакомую нам комнату.
Лекарь стал ходить по комнате и о чем-то думал. Казалось, он даже забыл о молодом московите. Затем он подошел к полкам, взял скляночку, налил туда сначала из одной колбочки немного жидкости, затем из другой несколько капель и встряхнул. Жидкость от этого как будто немного помутнела. Затем Вирениус подержал скляночку над огнем в горне – и Яглин, к своему удивлению, увидал, что на дно склянки выпал красный осадок.
«И хитрый же народ – эти еуропейцы!» – подумал он про себя.
Вирениус как будто догадался, что думал молодой человек, и обернулся к нему.
– Вы удивлены? – сказал он, рассматривая на свет скляночку. – Это понятно. Вы приехали из такой дикой страны, где едва ли врачебное искусство процветает. Вот я стар, а сам еще и до сих пор чему-нибудь учусь и буду учиться до самой смерти. Вот мои учители, – и он указал на большой шкаф в углу с книгами. – Я их много раз читал, а еще и до сих пор не знаю как следует.
С этими словами он снял с полки один толстый фолиант.
Это были творения отца медицины – Гиппократа[7]: его «Сборник», в десяти частях, на греческом и латинском языках, изданный во Франкфурте в 1500 году.
– Великое творение светлого ума! – произнес Вирениус. – Еще тогда, когда наша страна погрязала во мраке невежества и неизвестности, великий грек уже знал строение человеческого тела. Он знал, как нужны человечеству знания врачевания, и справедливо сказал, что «врач-философ подобен богам». Да будет почтена его память в веках! – Положив эту книгу на место, он взял другую и, показывая Яглину, сказал: – А это – продолжатель искусства отца медицины – Гален[8]. Он изрек великую истину: «Природа ничего не делает даром». Вот сочинения Мондино, или Раймондо деи Льючи[9], великого Андрея Везалия[10], Фаллопия[11], Каспара Аселия[12]. И много других…
– Интересное ваше дело, – заметил Роман.
– Интересное, сказали вы? – спросил доктор. – Разве делать дело милосердия не интересно? Разве возвращать умирающего к жизни, больного к здоровью – не интересно? Я не знаю, что может быть выше этого призвания, и не согласился бы променять свое звание врача на королевскую корону.
Глаза Вирениуса сверкали – и Яглин видел, что последние слова лекаря – не фраза. Он с почтением смотрел на него, на ряд книг и лабораторию и чувствовал, что в душу его вливается что-то новое, желание знать, что написано в этих толстых фолиантах, изучать природу человека, его болезни.
«Откуда это?» – вдруг, опомнившись, подумал он.
И в то же время он чувствовал, что с этой минуты эта лаборатория делалась для него как бы родной и этот иноземный человек, с фанатическим почтением смотревший на книги, близким.
И вдруг точно луч света сверкнул в его мозгу.
«Гишпанка!.. – подумал он. – Она!.. Она это сделала!..»
И нежность Романа к этому дому, к живущим в нем людям удвоилась.
XIX
Вирениус каждый день навещал больного посланника, здоровье которого со дня на день улучшалось. Благодаря этому Яглин почти каждый день бывал в маленьком домике лекаря и очень часто виделся с «гишпанкой».
Вирениус вовсе не был испанцем. Он был итальянец, но женился на испанке, передавшей дочери свою красоту.
Яглину несколько раз хотелось спросить Элеонору о ее отношениях с Гастоном де Вигонем, но каждый раз его останавливали какая-то боязнь и робость, точно он опасался услышать неприятное для себя.
Впрочем, для продолжительных разговоров у них и не было много времени, так как Вирениус постоянно уводил Романа в свою лабораторию и там разговаривал с ним о своем любимом деле – медицине.
Наконец Потемкин настолько оправился, что был в силах подняться с постели.
Во время своей болезни он так привык к своему лекарю, что порой даже скучал без него. При его посещениях он лично, посредством Яглина, разговаривал с ним и расспрашивал его о врачебном деле.
Последнее он делал неспроста. При отъезде из Москвы ему был дан наказ в Посольском приказе, чтобы «для его великого государя службы в немецких, фряжских, гишпанских и иных землях всяких искусных людей, которые ратное дело изрядно знают, и руды всякие из земли копать, и лекарей искусных, и кто аптечное дело добре понимает, и сукна разные делать, и иных прочих таких людей подговаривать в Русское царство идти и льготы им всякие обещать, и жалованье, и государеву милость». Поэтому Потемкин, видя на себе действие искусства Вирениуса, и вздумал уговорить его перейти на службу московского государя.
– Ты вот что, Роман, – сказал он как-то Яглину, – поговори-ка с этим лекарем да разузнай, что он, как живет, не думает ли на службу к кому идти и все такое.
– А к чему это, государь?
– А уж это – не твоего разума дело! Ты пока делай лишь, что тебе сказано.
Вечером в этот день Яглин стал собираться в маленький домик. Он вынул новый бархатный кафтан, соболью шапку и желтые сапоги – все это подарок будущего тестя.
– Эй, Роман, ты что это сегодня великий убор вздумал надевать? – спросил подьячий, сидевший в это время у стола. – Али к какой красотке вздумал идти? Иди, иди, брат! Здесь девки-то больно хороши! А ты где себе кралю-то подцепил?
– Поди ты к лешему! – начал сердиться Яглин.
– Да ты чего лаешься-то? Ты – человек молодой… Знамо дело, тоже погулять охота… Ох, когда я молодой-то был, вот по этой части дока был!.. Девки тогда так и льнули ко мне.
Яглин, засмеявшись, воскликнул:
– Ты, Прокофьич? Вот уж трудно было бы подумать!
– Да ты постой, парень, зубы-то скалить. Разве я все такой был? Эге!.. Молодец хоть куда!.. Ты вот хоть и красив, а тебе все же трудно за мною было бы угнаться. Ну, так скажи же, Романушка, к какой красотке-то ты отправляешься, что так разрядился?
– Ни к какой не иду, – ответил Яглин. – Посылает меня Петр Иванович к лекарю Вирениусу, – вот к нему и иду.
– То-то к лекарю, – лукаво подмигивая глазами, сказал подьячий. – Не к лекарской ли дочке?
– А ты почем знаешь, что у него есть дочь? – спросил Роман.
– Знаю уж… Та самая, что тогда с тем молодцом эту сволочь, на нас напавшую, разогнали. А что она лекарская дочь, так про это мне вчера тот солдат – Баптист, что ли, его зовут – сказал. Только вот что, молодец: напрасно ты своей головой будешь стену бить – не про тебя этот кусок.
– Чего ты там языком хлопаешь, пьяница кружальный? – закричал на него Яглин, рассердившись не на шутку. – Или хочешь, чтобы я твой сизый нос на сторону сбил за твои паскудные речи?
– Ну, ну, я ведь по дружбе к тебе только! Хотел тебя предостеречь, чтобы ты зря тут не влопался.
Яглин решительно подошел к подьячему, крепко взял его за козырь кафтана и, приподняв на воздух, крепко тряхнул его.
– Ну, говори ты, приказная строка, что ты такое набрехал тут про нее?..
– Ой-ой-ой!.. Что ты, Романушка!.. – испуганным голосом заговорил подьячий. – Что ты?.. Пусти, пусти, задушишь ведь… Какая тебя там блоха укусила?.. Да провались ты совсем со своей черномазой гишпанкой, чтобы вас обоих с нею нечистая сила забрала. Ишь, леший! Весь козырь почти оторвал. Кто мне его здесь пришьет?
– Не говори непотребных слов!
– «Не говори»! А чего я тебе сказал? По дружбе хотел сказать только тебе, что нарвешься ты на того молодца, что нас от смерти неминучей с твоей гишпанкой спас. Он сам путается с этой девчонкой. А коли ты поперек дороги станешь, так он угостит тебя шпагой.
– Слушай, Прокофьич! – строгим тоном сказал Яглин, грозя пальцем под самым носом подьячего. – Чтобы твой поганый язык напередки не смел ничего про нее говорить, а то я вырву его у тебя из глотки и собакам брошу. Понял? – И, еще раз погрозив толстяку пальцем, он вышел вон из дома.
Подьячий остался в комнате один с широко раскрытыми глазами.
– Фу ты, напасть!.. – забормотал он про себя. – Что это с ним сделалось? Никак, он в эту гишпанку-то того… Не поблагодарил бы его будущий тестюшка за такие дела!.. Ну да Петру Ивановичу так и надо. Я рад, если его будущий зятюшка пред венцом вдоволь погуляет. Будет чем потом, живя с рябой Настасьей, вспомнить свою молодость. Будет посланник знать, как батогами мне грозить. Я еще и сам Роману помогу, где надоть, Петрушке свинью подложить.
Роман рассерженный вышел из дома. Но вскоре его раздражение улеглось, и он на свой предыдущий разговор взглянул даже юмористически, зная, что от Прокофьича дурного ждать нельзя – самое большое, если потреплет языком. Довольный этим, он быстро зашагал по направлению к дому Вирениуса.
Еще издали Роман увидел в одном из окон знакомую фигуру, напряженно смотревшую вдаль. Завидев вышедшего из-за угла и попавшего в поле ее зрения Яглина, она вся вдруг вспыхнула и поспешно отошла от окна в глубь комнаты. Яглин издали заметил это смущение, и у него сладко защемило сердце.
Не успел он дойти до дома, как дверь последнего отворилась и на пороге показалась «гишпанка».
– Вы к отцу? – спросила она, обдавая его лучистым взглядом своих больших черных глаз, и невольно залюбовалась его красивым нарядом.
– Да. Он дома?
– Нет, его дома нет. Он у одного больного. Но скоро придет. Вы, быть может, подождете?
Роман, конечно, охотно принял это приглашение, так как до сих пор ему не приходилось еще ни разу быть с «гишпанкой» наедине. Он прошел за нею, и она провела его в свою комнату.
Что они там говорили, наверное, Яглин не рассказал бы никому на свете; но только когда он вышел, то чувствовал, что у него готово от радости выскочить из груди сердце.
– Она не любит его, не любит! – в радостном возбуждении повторял он, идя к себе в гостиницу.
Конечно, в этот день ему так и не удалось ни о чем переговорить с Вирениусом.
XX
Это Роман сделал на другой день.
Лекарь сказал ему, что в Байоне он остановился на время и думает ехать ко двору одного немецкого князя, где надеется получить постоянную службу.
– А знаешь что, Роман, – сказал Потемкин, когда Яглин передал собранные им от лекаря сведения, – что будет, если переманить его на службу царского высочества? А?
У Яглина вдруг радостно забилось сердце – и опять зашевелились радостные надежды.
– Как, государь? В Москву?
– Ну да! Ведь помнишь, чать, что в Посольском приказе на этот счет нам заказывали? Чтобы всяких искусных людей на царскую службу сманивать. А он, кажись, лекарь хороший.
– Сам видел, государь, – ответил Яглин. – Кабы не он, так и не подняться бы тебе с постели.
– Это – правда. Ну, так вот передай-ка ты ему это. Не хочет ли он на царскую службу идти?..

