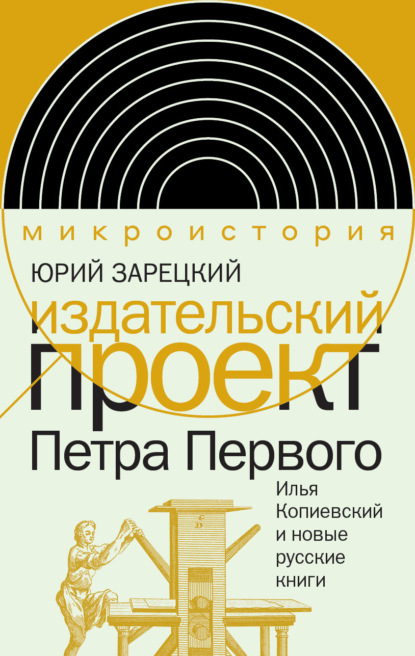
Полная версия:
Издательский проект Петра Первого. Илья Копиевский и новые русские книги
Впоследствии к мнению о несущественной роли книг Копиевского – Тессинга в процессе становления научного знания в России историки добавили еще один аргумент: европейским знаниям препятствовали православная ортодоксия и общий традиционалистский характер русской культуры. По мнению Макса Окенфусса, эта характерная особенность российского общества и привела к провалу амстердамского издательского проекта Петра98. Однако такой вывод он основывал исключительно на суждениях отдельных церковных писателей, считая, что по их трудам можно судить о русской культуре петровского времени в целом. Между тем новые исследования убедительно показывают, что культура России петровского времени была далеко не однородной и что значительная часть российского общества конца XVII – начала XVIII века охотно принимала европейские научные знания. В частности, Даниэль Уо в качестве одного из примеров ее гетерогенности указал на ученые занятия хлыновского дьячка Семена Попова, «списавшего», кроме прочих, две книги Копиевского99. Об интересе русских людей к европейским научным знаниям свидетельствуют и многочисленные владельческие записи на печатных экземплярах амстердамских учебников, оставленные дворянами, чиновниками, священнослужителями, торговыми людьми, студентами100.
Наконец, еще одно основание для заключения о малоизвестности этих учебников в России основывается на сведениях библиографов XIX–XX веков. Прежде всего, на подсчетах количества их экземпляров в главных библиотеках СССР и на суждениях составителей старых каталогов русской старопечатной книги. Последние обычно добавляли к описаниям изданий Копиевского – Тессинга пометки вроде «книга чрезвычайно редкая», «встречается очень редко», «книжка очень редкая» и т. п.101 В наши дни к этим пометкам нужно, однако, относиться с осторожностью: теперь мы знаем, что этих изданий сохранилось гораздо больше, чем считалось раньше. К тому же их выявление в собраниях библиотек и музеев все еще продолжается – как в России, так и за рубежом.
И все же, учитывая, что некоторые книги Копиевского печатались значительными по тем временам тиражами, можно согласиться, что до нас их дошло немного. Но здесь нужно помнить о специфических условия их бытования – количество сохранившихся экземпляров старой книги зависит от самых разных обстоятельств и потому далеко не всегда является свидетельством ее прежней популярности или наоборот. Что касается учебной литературы, то здесь случай особый – она быстро приходит в физическую негодность из‑за активного использования и потому редко живет долго. К тому же учебники Копиевского были небольшими по объему и не отличались полиграфическими достоинствами – соответственно, вряд ли они часто помещались их владельцами в дорогие переплеты и особо бережно ими хранились. Здесь можно было бы, скажем, сравнить число этих учебников с числом дошедших до нас «Арифметик» Магницкого (1703, тираж 2400 экземпляров) или «Букварей» Поликарпова-Орлова (1701, тираж 3000 экземпляров)102. Однако нельзя забывать, что такое сравнение будет не вполне репрезентативно: оба московских издания существенно превосходили книги Копиевского как по объему, так и по качеству печати, благодаря чему имели гораздо больше шансов сохраниться до сегодняшнего дня.
Размышляя об известности/неизвестности амстердамских книг в России, нужно еще помнить, что они были лишь первым шагом в реализации грандиозного проекта Петра по печатанию светской учебной литературы. Через несколько лет после их выхода на российских читателей обрушился целый поток разнообразных «ученых» изданий, печатавшихся уже не в далеком «Амстеродаме», а в Москве и Санкт-Петербурге. Очевидно, что этот поток не мог не оттеснить книги Копиевского на второй план. Однако совсем забыты они, конечно, не были, продолжая служить для русских людей источником знаний вплоть до последних десятилетий XVIII века103. А, по крайней мере, в одном случае, о котором речь пойдет в следующей главе, и до середины следующего столетия.
По городам и весям Как же происходило распространение амстердамских изданий в России? Разошлись ли они по ее необъятным просторам? Каким образом и кому они попадали в руки?
Хорошо известно, что в соответствии с петровской привилегией Тессингу из Амстердама книги доставлялись морским путем в Архангельск, а оттуда в Москву и другие российские города и села. Очевидно, какая-то небольшая их часть по традиции была сразу «безденежно» передана Петру, членам его семьи и высокопоставленным особам из ближайшего окружения царя. Во всяком случае, они вскоре оказались в петровской библиотеке, книжных собраниях Д. М. Голицына и Я. В. Брюса, а также в «книгохранителной келье» архиерейской ризницы митрополита Иова в Колмовском монастыре104. Еще несколько экземпляров поступило по крайней мере в два государственных учреждения: Посольский приказ и Московский печатный двор105. Что касается большей части амстердамских книг, то они, снова в соответствии со сказанным в государевой грамоте, распространялись «повольною торговлей» и, следовательно, попадали в руки к самым разным людям.
Первым местом этой торговли была архангельская ярмарка – одна из крупнейших в России того времени. Русские купцы сотнями съезжались сюда со своими товарами по течению Двины и возвращались обратно с заморскими – в Москву, Ярославль, Кострому, Вологду, Каргополь, другие губернские и уездные города, слободы и села106. Среди этих заморских товаров должны были находиться и амстердамские учебники, хотя, скорее всего, их было не слишком много, поскольку большинство отправлялось из Архангельска напрямую в Москву, где печатная продукция пользовалась особым спросом и для нее имелись специализированные места продаж: книжный ряд и «библиотеки»107.
О торговле в Москве книгами Копиевского мне известно три свидетельства. Согласно первому, их привозил сюда голландец Елисей Клюк, отдавал часть на продажу русским купцам, а оставшуюся распространял сам через нанятых торговцев («сидельцев»). Одним из этих сидельцев был торговавший в Самопальном (то есть оружейном) ряду наборщик Печатного двора Дмитрий Коробов108. Второе свидетельство находим в исследовании Эдварда Винтера, ссылающегося на неопубликованное письмо от 11 марта 1704 года немецкого филолога Генриха Лудольфа ученому и богослову Августу Франке. В нем Лудольф, кроме прочего, называет имя одного из продавцов книг Копиевского, некоего Шумана109. Наконец третье, наиболее подробное, принадлежит самому Копиевскому и содержится в его челобитной Петру 1710 года. В ней говорится, что книги, которые он «тискал в Амстердаме», продаются в Москве без его ведома и согласия, что приносит ему «обиду немалую и разорение»110. Обвинение в обмане Копиевский предъявляет здесь трем лицам: уже упоминавшемуся купцу Елисею Клюку, переводчику Посольского приказа Венедикту Шиллингу (Шилинхту) и некоему иноземцу «Ивану Фоншвейдену»111. Назвав имена своих обидчиков, он просит царя их «сыскать и допросить и свой милостивый монарший указ учинить»112.
До нас дошло также сообщение о ходе продаж в Москве учебника латинской грамматики Копиевского113. В упоминавшемся письме Лудольфа к Франке от 11 марта 1704 года говорится, что в городе на время его написания уже нельзя было найти ни одного ее экземпляра114. Если доверять этому сообщению, то книга была распродана на удивление быстро: мы знаем, что путь светских изданий из типографии к читателю в России первой половины XVIII века измерялся годами, а иногда и десятилетиями115.
К сказанному нужно добавить, что много новых важных сведений о бытовании амстердамских изданий в России может дать обстоятельный анализ содержащихся в них владельческих записей. По моим предварительным подсчетам, сделанным на основе этих записей, география распространения книг Копиевского, кроме обеих столиц, включала по меньшей мере еще восемь русских городов: Архангельск, Великий Новгород, Великий Устюг, Вятку (Хлынов), Нижний Новгород, Пустозерск, Тверь, Ярославль116.
Читатели
«Благородные юноши» В предисловии к первой изданной им книге, «Введению краткому», Копиевский адресовал ее «благородным юношам»117. Очевидно, что к этой же аудитории он прежде всего обращался и в других своих учебных пособиях. Насколько эта аудитория была широкой и из кого состояла? К сожалению, за исключением единичных случаев мы мало что о ней знаем. Известно только, что в числе этих «благородных юношей» оказались десятки или в лучшем случае несколько сотен учеников духовных училищ и первых российских светских школ.
В первые же месяцы после выхода из печати Латинской грамматики несколько ее экземпляров, несмотря на свое критическое отношение к книге, закупил для своего училища Эрнст Глюк118. По этому же учебнику осваивали начала латыни ученики Новгородской славяно-греческой школы братьев Лихудов и, вероятно, нескольких других духовных и светских учебных заведений119. Помимо Латинской грамматики, особенно востребованными, судя по всему, оказались еще две книги: пособие по русскому языку и русско-латинско-немецкий «номенклатор»120. О популярности последнего могут свидетельствовать три его переиздания в первые десятилетия XVIII века. Последнее, вышедшее в Санкт-Петербурге в 1732 году под названием «Латинороссийская и немецкая словесная книга», помимо обеих столиц, использовалось в латинской школе Екатеринбурга121. Что касается сведений об учебнике русского языка, то он был в употреблении в Устюжской семинарии и, по-видимому, в латинской католической школе Немецкой слободы в Москве122. Историки русского образования считают, что по книгам Копиевского обучались также в цифирных школах и Школе навигацких и математических наук123. Впрочем, поскольку образование в России во времена Петра и еще долго после было преимущественно домашним, вряд ли ученики школ и училищ составили большинство их читателей. Скорее, этим большинством были просто любознательные русские люди самых разных возрастов и сословий.
Федор Поликарпов Среди русских читателей амстердамских книг находились и люди известные. Одним из них был справщик Московской типографии Федор Поликарпов-Орлов, в 1701 году назначенный начальником Приказа книг Печатного двора. Он был не только одним из первых, но и одним из самых внимательных их читателей, по крайней мере двух: русско-латинско-немецкого «номенклатора» и «Притч Эзоповых»124.
Об обстоятельном знакомстве с «номенклатором» свидетельствует использование его материалов в составленном Поликарповым славяно-греко-латинском букваре, печатание которого началось 28 декабря 1700 года, то есть спустя несколько месяцев после выхода словаря Копиевского125. Исследователи установили, что в одной из глав в несколько измененных формах здесь приводятся те же самые лексемы126. По-видимому, одновременно с «номенклатором» до Поликарпова дошли и «Притчи Эзоповы», также вышедшие из типографии Тессинга в первые месяцы 1700 года. Об этом снова свидетельствует его «Букварь», содержащий неодобрительный отзыв о появлении печатного перевода Эзопа. Богоугодное содержание своего собственного сочинения (в него вошли нравоучения Григория Богослова, святителя Геннадия I и других чтимых Восточной церковью авторов) Поликарпов противопоставляет сомнительным в вероисповедном отношении сочинениям языческих писателей и в качестве одного из них называет «типографическо зримы» басни Эзопа127.
Сохранившиеся экземпляры
Размышляя о месте учебных книг Копиевского – Тессинга в петровском проекте модернизации России, уместно задаться вопросом о количестве их экземпляров, дошедших до нас. Поскольку специально к выявлению этих книг исследователи приступили только недавно, их результаты имеют лишь предварительный характер128. Однако очевидно, что амстердамских изданий сохранилось значительно больше, чем считалось раньше. Ниже приводятся мои предварительные подсчеты по электронным и карточным каталогам российских и зарубежных библиотек с указанием: а) общего количества выявленных экземпляров; б) экземпляров в Российских книгохранилищах (с их названиями); в) экземпляров, находящихся за рубежом (только с обозначением страны)129.
1. Введение краткое во всякую историю – 22. В России: РГБ – 1; РНБ – 3; БАН – 2; ГИМ – 2; РГАДА – 1; СГУ – 1 (по сообщению С. А. Мезина); ЯМЗ – 1; Частная коллекция? – 1130. За рубежом: Нидерланды – 6; Великобритания – 1; Германия – 1; Канада – 1; Украина – 1131.
2. Краткое и полезное руковедение во аритметику – 7. В России: РГБ – 1; РНБ – 2; БАН – 1; ГИМ – 1. За рубежом: Германия – 1; США – 1.
3. Уготование и толкование ясное и зело изрядное – 4. В России: РНБ – 1; БАН – 1; РГБ* – 1; ГЭ* – 1132.
4. Номенклатор, на русском, латинском и немецком языках – 9. В России: РГБ – 1; РНБ – 2; БАН – 1; НГОУНБ – 1; ЯМЗ – 1. За рубежом: Швеция – 2; Франция – 1133.
5. Номенклатор на русском, латинском и голландском языках – 8. В России: РГБ – 3; РНБ – 3; ГИМ – 1; БАН* – 1.
6. Притчи Эзоповы – 5. В России: РГБ – 1; РНБ – 1; ГИМ – 1; ИРЛИ* – 1. За рубежом: Великобритания – 1.
7. Лев VI Мудрый. Краткое собрание – 19. В России: РГБ – 8; РНБ – 4; БАН – 1; ГИМ – 2; МК – 1; РГАДА* – 1. За рубежом: Германия – 2.
8. Latina grammatica – 24. В России: РГБ – 6; РНБ – 1; БАН – 1; ГИМ – 3; СПбГУ – 1; ЯМЗ – 1. За рубежом: Франция – 1; Великобритания – 1; Германия – 1; Дания – 2; Нидерланды – 6.
9. Слава торжеств и знамен побед – 7. В России: БАН – 1; ВСМЗ – 1; ГИМ – 1; РГБ – 1; РНБ – 1; ИИРАН – 1*. За рубежом: Украина – 1*.
10. Книга учащая морского плавания – 7. В России: РГБ – 1; РНБ – 2; БАН – 1; МК – 1; НМЗ – 1; РГАДА – 1*.
11. Руковедение в грамматыку – 5. В России: РГБ – 2; РНБ – 1. За рубежом: Германия – 1; Швеция – 1.
Что могут сказать приведенные цифры о распространенности этих книг в России начала XVIII века? Учитывая тысячные тиражи, которыми они издавались, сохранилось их явно немного. Однако из такого заключения вовсе не следует, что они были малоизвестны и малодоступны русским читателям. Как выше уже отмечалось, помимо тиража, количество дошедших до нас экземпляров той или иной книги зависит от разных обстоятельств и далеко не всегда является свидетельством ее прежней популярности (или наоборот).
«Общая народная польза и прибыток»
Главный и наиболее трудный вопрос, который возникает в связи с амстердамскими книгами, – принесли ли они России тот результат, на который рассчитывал Петр? Чтобы более-менее определенно ответить на него, потребуется еще проделать серьезную работу в самых разных направлениях.
Прежде всего, скрупулезно исследовать владельческие записи и рукописные пометы на уже известных экземплярах и выявить те, которые все еще затеряны в российских и зарубежных книгохранилищах. Исследователей здесь, несомненно, ждут находки, способные существенно дополнить общую картину.
Перспективным в этом направлении может также стать исследование их рукописных копий134. Известно, что в России вплоть до начала XIX века многие печатные книги, особенно светского содержания, массово переписывались, выполняя те же общественные функции, что и печатные. Очевидно, что амстердамские издания в данном случае не были исключением. Еще в середине прошлого века Н. Н. Розов обнаружил среди рукописей собирателя древностей А. А. Титова переработанную и дополненную неизвестным переписчиком середины XVIII века копию «Введения краткого»135. Затем в начале нынешнего Даниэль Уо установил, что «Аритметика» и «Слава торжеств» в петровское время были «списаны» дьячком Богоявленского собора в Хлынове Семеном Поповым136. Наконец, совсем недавно О. В. Русаковский обратил внимание на два аналогичных документа: сокращенный текст «Краткого собрания Льва Миротворца», списанный в Сибири между 1708 и 1720 годами Федором Поповым в его «Записную книгу военного человека», и на утраченную рукопись этого же сочинения Льва VI из собрания Свято-Успенской Флорищевой пустыни в Нижегородской области137. Можно не сомневаться, что за этими находками в скором будущем последуют и другие.
Особая тема – непосредственное влияние амстердамских книг на общие перемены в русской культуре начала XVIII века. Совершенно очевидно, что они не стали ключевым событием в просветительских реформах Петра I. Тем более что десятилетие спустя по его распоряжению началось по-настоящему массовое издание переводов сочинений европейских авторов, теперь уже в России. Однако, будучи первыми печатными учебниками, по которым сотни или даже тысячи русских людей впервые знакомились с европейскими «науками и художествами», они сыграли в этих реформах заметную роль138.
Переводные «ученые» книги европейцев были, конечно, известны и в допетровской Руси, однако все они были рукописными. Начало же тиражирования научных знаний с помощью печатного станка внесло важные изменения в процесс их распространения. Прежде всего, конечно, это привело к многократному увеличению объема книжной продукции. Однако важным было и то, что содержание печатных книг, не зависевшее от воли переписчиков, стало теперь абсолютно тождественным139. В результате европейские знания не только могли распространяться в России в небывалых раньше масштабах, но и дойти до читателей в унифицированном виде – в полном соответствии с одним из важнейших принципов научности140. Так, из книг Копиевского – Тессинга массовый русский читатель впервые мог получить единообразные толкования многих научных терминов, печатную карту звездного неба с обозначением созвездий на русском языке и много других полезных знаний еще141.
Если говорить о месте этих книг в преобразованиях русской культуры начала XVIII века в целом, то вполне можно согласиться с теми учеными, которые считали, что они стали началом ее принципиально важных изменений. По заключению М. М. Богословского, это были первые признаки «того нового явления в духовной жизни русского общества, каким было научное знание»142. В другом месте историк подчеркивал, что амстердамские издания дали старт решительному обновлению репертуара русской печатной продукции, став началом «того поворота на новый путь в деле книжного просвещения… поворота от церковной литературы к научному знанию»143.
О важных новациях, привнесенных изданиями Копиевского – Тессинга в русское книгопечатание, говорят и историки книги. Они указывают на то, что в них использовался новый славянский шрифт, ставший прообразом «гражданки», впервые употреблялись арабские цифры и титульный лист европейского типа с подчеркнуто выделенными заглавием и выходными данными. К этому они добавляют, что Копиевскому принадлежит заслуга создания первой печатной библиографии русских изданий, ставшей одновременно и первой русской персональной библиографией144.
В общем, будучи первым вкладом в те грандиозные перемены, которые произошли в русской культуре в XVIII веке, «пользу и прибыток» амстердамские издания, безусловно, принесли, пусть сегодня и не слишком заметную.
Глава 2
«Всякая история» и ее читатели
Зде помощь к познанию всякия истории подастся: что знаменует история, и что в себе содержит, и какова с нея полза, и к чему всякая история написана есть…
Илья Копиевский. Предисловие к «Введению краткому»Эта глава целиком посвящена одной книге Копиевского, вышедшей первой в типографии Тессинга, – пособию по всемирной истории145. В первой части речь идет о структуре учебника, содержании представленного в нем исторического материала и способе его изложения. Какие сведения о прошлом человечества он включал? На каких принципах строится в нем рассказ Копиевского о всемирной истории? Какие сочинения европейских авторов он мог использовать при подготовке этого труда? Наконец, какие задачи ему приходилось решать в процессе перевода и адаптации этих сочинений к «горизонту ожидания» российских читателей146?
Во второй части главы содержится обзор литературы по всемирной истории, доступной в России накануне выхода «Введения краткого», и на его основе реконструируется картина прошлого человечества русских книжников. Специальное внимание в этом обзоре обращено на отличия содержания и построения известных русским людям рукописных исторических сочинений от трудов по всемирной истории западноевропейских авторов XVI–XVII веков. Эти отличия позволяют сделать вывод о том, что учебник истории Копиевского представлял русским читателям не только новую для них картину прошлого человечества, но и незнакомый им способ рассказа о нем. Также кратко определяется место «Введения краткого» в процессе становления российского историописания.
Наконец, в третьей части представлен опыт реконструкции читательской аудитории книги. Здесь обобщаются данные о поступлении «Введения краткого» в государственные и частные собрания в начале XVIII века и количестве его экземпляров сохранившихся сегодня. Однако главное внимание уделяется подробному рассмотрению владельческих записей на трех из дошедших до нас экземплярах. Они позволяют проследить конкретные обстоятельства бытования всемирной истории Копиевского в России XVIII – первой половины XIX века. В заключении главы суммируются сведения о читателях этой книги и строятся догадки о степени ее известности и востребованности.
Книга
Как мы уже знаем, главным действующим лицом в реализации проекта Петра по изданию серии светских учебных пособий на русском языке выпало стать Илье Копиевскому, и первым его учебником было краткое пособие по всемирной истории, уместившееся в скромную семидесятистраничную книжку. Объясняя во введении читателям, почему именно учебник истории он издает первым, Копиевский отсылал их к суждению Цицерона об истории как наставнице жизни. Сообщив о том, что вскоре для них будут напечатаны и другие учебники («математическия, геометричныя, архитектонские и ратные земные и морские книги, и прочия всякия художные»), он добавлял, что путь к пониманию других наук открывает именно история: «И тако избрахом помощию всемогущаго Господа Бога нашего, сицевую книгу, имущую имя введения, неточию бо ведет во всякую историю, но и во всякую выже именнованную книгу, и по подобию ключа всякую отворит…»147
Содержание
Совершенно очевидно, что, составляя свой учебник, Копиевский не претендовал на звание историка и свою первоочередную задачу видел в том, чтобы в сжатом виде передать русским читателям основное содержание исторических трудов европейских ученых. Соответственно, и книгу он строил по принятому в их трудах порядку: введение и основная часть из двух разделов. В первом давалось общее представление о предмете истории, а во втором, основном, рассказывалось об исторических событиях от сотворения мира до первой половины XVII века. Поскольку в Европе того времени история нередко преподавалась вместе с географией, в этот второй раздел Копиевский на нескольких страницах добавил и краткое географическое описание мира.
Совершенно очевидно и то, что он стремился сделать содержание своего учебника максимально ясным и понятным читателям. Это особенно заметно по его усилиям по систематизации разнообразного исторического материала: каждая из небольших главок разбита им на параграфы и/или включает пронумерованные перечни понятий, обозначений исторических периодов, имен правителей, названий государств, топонимов и т. д. Примером такой систематизации может служить классификация видов исторических сочинений в первой главе первого раздела книги. Этих видов Копиевский насчитывает шесть: «кроника» (ее прототипом он называет Паралипоменон, ветхозаветные книги священной истории), «временописие» (так им обозначается краткое собрание «деяний или дел»), «летописие или деяние» (по его определению, это «книги по церковнославянскому», в которых «всякого лета деяния пишутся»), «деннописие» (то есть поденные хроники, где «всякого дне деяния или дела содержатся»), «властописие» (вероятно, здесь имеются в виду хроники правления королей и императоров – «в ним же власти, по обычаю римлян, всякия деяния, или дела на всякое лето пишутся») и, наконец, «житияписие», то есть биография («жития поведение или бытия некоторых людей и деяния или дел их»). В последнем случае жанровая атрибуция не вызывает никаких затруднений благодаря ссылке Копиевского на общеизвестный пример: «Сицевыи же есть Плютарх, иже многих описа житие и дела».
Главное содержание второго, основного раздела – изложение событий всемирной истории. Он существенно превосходит первый по объему и включает три главы: «В первой сама синопсис историчная», «Вторая заключает летописие» и «Третия – описание всея вселенныя». «Синопсис» – это и есть краткое изложение событий «всея истории», выстроенное в соответствии со все еще распространенной в историографии XVII века средневековой периодизацией. Рассказ о прошлом человечества разделен здесь на две основных части, до Потопа и после, на две бо́льшие по объему части разделена и история после Потопа: до и после рождения Христа.



