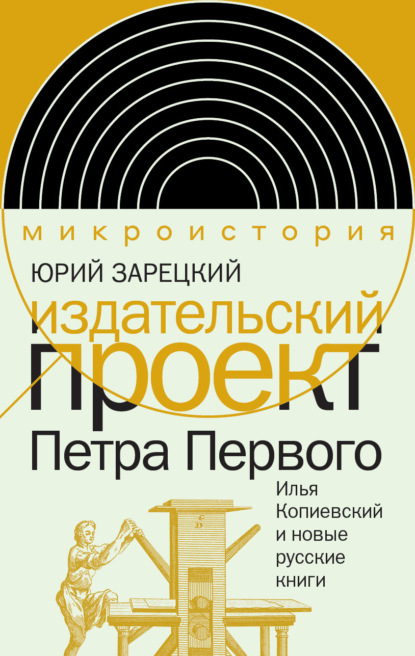
Полная версия:
Издательский проект Петра Первого. Илья Копиевский и новые русские книги
Глава 1
Первые светские учебные издания
Много ли сделали голландские издания для «общей народной пользы и прибытка» – положительно неизвестно…
Д. И. Писарев. Бедная русская мысль (1862) 17Зарубежная русская типография
Издательский проект Петра
Вряд ли, отправляясь весной 1697 года в Европу, молодой Петр не осознавал важности «революции Гутенберга» для практических нужд управления государством. В первую очередь эти практические нужды были связаны с изданием географических карт и описаний земель – как его собственных владений, так и соседних с Россией стран. При Алексее Михайловиче потребности такого рода частично удовлетворяли рукописные переводы иностранных изданий, выполненные в Посольском приказе. Однако теперь, в связи с усложнением и расширением функций государственного аппарата, эти рукописные копии уже не отвечали новым задачам администрирования обширных российских владений. Не исключено, что дополнительным импульсом к печатанию такого рода изданий стали две публикации Николааса Витсена, вышедшие в Амстердаме на голландском языке: карта восточной и южной части Евразии и описание Сибири. Поскольку обе включали посвящения Петру и были ему поднесены, он, несомненно, был с ними знаком18.
Однако замысел Петра явно не ограничивался чисто утилитарными задачами государственного управления. Он не мог не осознавать значение изобретения Гутенберга для реализации главной цели своего правления, которую современные историки обозначают понятием «модернизация России». Тем более что с ранних лет общаясь с иностранцами – особенно близко с его учителями Францем Лефортом и Францем Тиммерманом, – он постоянно ощущал скудость познаний россиян в области европейских «наук и художеств». Скорее всего, через этих двух людей состоялось и первое знакомство Петра с печатными трудами европейских ученых на иностранных языках, имевшимися в библиотеке русских царей. Среди них было немало книг и карт, изданных в Амстердаме19. Хотя весной 1697 года в планы царя вряд ли входило создание русской типографии в Голландии – Великое посольство изначально задумывалось для решения других задач, в первую очередь политических20. Тем не менее именно в Голландии он задумал свой первый проект издания «ученых» книг на русском языке21.
Жалованная грамота
17 мая 1698 года, уже на обратном пути в Россию, Петр и его свита подошли на трех яхтах к городу Неймеген, где сделали остановку, поджидая отставшее судно с имуществом – как сказано в документах, с «рухлядью»22. Во время этой остановки (а может быть, и немного раньше, на пути в Неймеген) царь занялся текущей рутиной – рассмотрением разных дел, не имевших первостепенной государственной важности. Процедура эта была вполне обыденная, имевшая собственное название – «читать дела». Петр заслушивал поступившие на его имя челобитные (если они были на иностранных языках, то в переводе) и по каждой сообщал свое решение, которое тут же записывалось, приобретая силу государева указа.
Одним из дел, прочитанных Петру в этот день, была челобитная голландского купца Яна Тессинга, поданная им тремя днями раньше в Амстердаме через русских послов23. С формальной точки зрения обращение купца было вполне заурядным: он испрашивал у русского царя привилегию на изготовление, ввоз и продажу в России своего товара. Незаурядным был лишь сам товар: разного рода печатная продукция на русском (или, как его еще называли тогда в документах, «славянском», «славенском», «славянороссийском», «славеноросском», «московском») и немецком языках. В зачитанном Петру переводе челобитной этот товар определялся как «всякие земные и морские картины или чертежи, листы и всякое книги о земных и морских ратных людех, о математике, архитектуре, городовом строении и иные художественные книги»24.
Из содержания челобитной следовало, что ко времени ее написания Тессинг уже получил устное согласие Петра на свою просьбу и, не дожидаясь письменного подтверждения, приступил к делу («намерение воспринял и ныне трудится во изготовлении и делании всяких печатных листов и книг»)25. Решение Петра по этой челобитной, по-видимому, было скорым. Во всяком случае, в статейном списке Посольского приказа о нем сказано кратко: «великий государь, царь, слушав того его челобитья, пожаловал галанца Ивана Тесенга»26. Во исполнение этого решения Тессингу (по-видимому, сопровождавшему Петра и его свиту по воде или по суше) в тот же день была выдана «отписка», включавшая подробные условия предоставления привилегии27. В полученном купцом документе определялся пятнадцатилетний срок действия привилегии и прописывался порядок продаж печатной продукции Тессинга в России. Помимо этого, «отписка» включала наказ архангельскому воеводе князю Михаилу Лыкову-Оболенскому записать государево волеизъявление в книгу «для сведения будущих воевод и приказных людей», а также оповестить о нем находящихся в Архангельске иностранцев28.
Не вызывает сомнений, что Тессинг получением «отписки» был доволен. Тем более что по содержанию она почти целиком (а во многих случаях даже дословно) повторяла условия, испрашиваемые им в челобитной. Он тут же распорядился перевести ее на голландский язык и, чтобы придать свою сделку с русским царем широкой огласке, издал какое-то количество экземпляров документа типографским способом29.
Однако купцу этого было мало. В дополнение к «отписке» он рассчитывал получить от Петра и официальную государственную грамоту, оформленную по всем правилам документов подобного рода. Очевидно, что она была нужна ему как новое доказательство его особых отношений с русским царем. И уже через два месяца, 8 (18) июля 1698 года, Тессинг шлет Петру новую челобитную с напоминанием, что продолжает терпеливо ожидать государева документа «о печатаньи и продавании книг»30. В добавление к этой просьбе он сообщает Петру, что уже со рвением приступил к исполнению условий контракта: «Аз не щажу ни трудов, ни убытков для продолжения сего дела охотою и ревностию…»31 И здесь же сокрушается, что из‑за нехватки переводчиков издание русских книг идет не так скоро, как ему бы хотелось: «Токмо мне скудость, милостивейший государь, в перевотчиках; инако же бы великие дела почал»32.
Купцу пришлось долго ждать Парадную грамоту русского царя. Она была изготовлена в Москве только полтора года спустя и получена Тессингом за несколько месяцев до его смерти. Но это была уже не деловая «отписка», а красочно оформленный документ, заверенный подписью секретаря Посольского приказа и государственной печатью.
После смерти купца грамота перешла его наследникам, которые долго и бережно ее хранили. Голландский писатель и историк Яков Шельтема рассказывает, что через сто с лишним лет после описываемых событий, он видел ее у одного из потомков Тессинга:
Этот указ, или распоряжение, еще бережно хранится у гос. Хендрика Тейсинга, в Гааге. Он оформлен с императорским великолепием; он написан на весьма большом листе тонкого пергамена, с красивыми буквами, и украшен с отменно и четко нарисованной каймой, с яркими цветами и с большим количеством золота и серебра; наверху размещен большой государственный герб, а по краю еще размещены двадцать пять гербов царств и княжеств Российской земли. Пергамен закутан в кусок красного персидского шелка или дамаста, к которому прикреплен отрезок золотой парчи, на нем же висит большая государственная печать на золотых шнурках в красивом чеканном ковчеге из позолоченного серебра.
И в конце этого описания добавляет от себя:
Среди всех Российских Государственных документов, которые мы видели, нет такого, который может ровняться с этим во внешнем великолепии и искусной каллиграфической и художественной работе33.
Государева воля
В парадной государевой грамоте 1700 года условия печатания книг в Амстердаме и последующего их распространения в России приобрели окончательные формулировки. В целом они были те же, что и в «отписке», однако теперь содержали несколько существенных уточнений, касающихся репертуара продукции Тессинга и порядка ее продаж. В грамоте также специально подчеркивалось, что привилегия дана купцу за услуги, оказанные Петру и его подданным в Голландии («за учиненные… великому посольству Нашему верныя службы»)34.
Репертуар печатной продукции типографии определялся как «земныя и морския картины, и чертежи, и листы, и персоны, и математическия, и архитектурския, и градостроительныя, и всякия ратныя и художественныя книги на Славянском и на Латинском языке вместе, тако и Славянским и Голландским языком по особу». Новым по сравнению с «отпиской» было и добавление, указывавшее на цель, которой должны служить издания Тессинга: «от чего б Нашего Царскаго Величества подданные много службы и прибытка могли получити и обучатися во всяких художествах и ведениях»35.
Здесь также подробно прописывались коммерческие и организационные условия реализации контракта с Тессингом36. Кроме подтверждения пятнадцатилетнего срока его действия, в грамоте определялся и точный размер государственной пошлины, которую должен был уплачивать купец при ввозе своего товара в Россию («по осьми денег с рубля»). Эту пошлину ему предписывалось внести один раз в Архангельске, после чего он и его приказчики могли торговать книгами по всей России («где похотят, повольною торговлею») без каких-либо дополнительных сборов37. Документ содержал также требование, чтобы все экземпляры книг скреплялись подписью Тессинга и клеймом его типографии – очевидно, для выявления контрафактной продукции, которая могла появиться в будущем.
Грамота устанавливала также три ограничения на репертуар изданий новой типографии. Первое касалось церковных книг кириллической печати («кроме церковных Славянских Греческаго языка книг»). Оно объяснялось тем, что издание этих книг является прерогативой Московского печатного двора, призванного следить за их «исправлением» в соответствии с церковной реформой Никона («книги церковныя Славянския Греческия со исправлением всего православнаго Устава Восточныя Церкви, печатаются в Нашем царствующем граде Москве»)38. Второе ограничение относилось к изданиям о Сибири и восточных российских владениях – привилегия на них раньше уже была дана Петром «московскому торговому иноземцу» Избранту Идесу39. Последнее, третье, относилось к политическому содержанию продукции Тессинга. Оно недвусмысленно требовало, чтобы изданные в его типографии книги прославляли русского царя и Российское государство, не содержали никакой на них хулы и были обращены во благо его подданных:
…Чтоб те чертежи и книги напечатаны были к славе Нашему, Великого Государя, Нашего Царскаго Величества превысокому имени и всему Российскому Нашему Царствию, меж Европейскими Монархи к цветущей наивящей похвале и ко общей народной пользе и прибытку, и ко обучению всяких художеств и ведению, а пониженья б Нашего Царскаго Величества превысокой чести и Государства Наших в славе в тех чертежах и книгах не было40.
Добавлю, что это последнее требование – одно из первых документальных подтверждений усилий Петра по созданию благоприятного образа русского государства и его правителя в печатном слове. И одновременно – убедительное свидетельство его отчетливого понимания сугубой важности изобретения Гутенберга для распространения общественно-значимых сведений.
Почему Тессинг
Ян Тессинг принадлежал к одной из известных в Амстердаме купеческих семей и являлся старшим из трех братьев41. Дело они унаследовали от их отца Хендрика Тессинга, имевшего давние связи с Московией, в частности в качестве участника крупного контракта по доставке мачтового леса из Архангельска в Амстердам. Кроме закупок леса, Хендрик занимался еще сбытом готовых мачт в Европе и другими коммерческими операциями, не связанными с лесоторговлей. Свои дела с Россией он обычно вел из Амстердама, однако с 1657 года несколько раз посещал и Архангельск. Судя по всему, его торговля шла вполне успешно – во всяком случае ко времени кончины купца в 1680 году его сыновья Ян, Эгберт и Фредерик, которым тогда было соответственно 21, 19 и 16 лет, получили солидное наследство.
Ян и Эгберт, продолжая дело отца, занимались закупкой в России мачтового леса, продавали там сукно и изготавливали пиломатериалы. В конце столетия дела Тессингов стали требовать длительного пребывания братьев в Архангельске и Вологде, где младший Фредерик торговал сукном. Ян, находясь в России, немного освоил «московский» язык и в Архангельске, судя по всему, однажды был представлен Петру42. Впоследствии это знакомство, по-видимому, сыграло свою роль в его отношениях с царем: когда в августе 1697 года Петр и его свита прибыли в Амстердам, Ян быстро сошелся с русскими и стал оказывать им разного рода услуги. В частности, вместе с другими голландскими купцами выступил посредником при размещении военных заказов Петра в Европе: на литье пушек, закупку мушкетов и кремниевых ружей43.
Давние связи дома Тессингов с Россией явно способствовали расположению Петра к Яну. О степени близости их отношений можно судить по тому, что Петр бывал в его доме (по его собственному свидетельству – «на загородном дворе купца Яна Тессинга в компании»), где вел беседы с хозяином и другими гостями о кораблестроении44. Не вызывает сомнений, что разговоры царя в доме купца вопросами кораблестроения не ограничивались. По-видимому, после одной из таких бесед в ноябре 1697 года, получив предварительно одобрение Петра, Ян подал послам «мемориал о понижении вывозных пошлин на мачтовые деревья в Архангельске»45. В нем он приводил аргументы в пользу снижения государственных сборов ради успешной конкуренции русского порта с Нарвой и Ригой. Вероятно, в это время у Петра и созрела мысль предложить предприимчивому купцу печатать в Амстердаме русские книги.
Рискованное предприятие
На первый взгляд кажется, что согласие Тессинга на это предложение русского царя (судя по дальнейшему развитию событий, даже охотное) выглядит довольно неожиданно – известно, что по роду своих занятий он никак не был связан с книгоизданием и не обладал знаниями, необходимыми для организации славянской типографии. Однако еще большая его трудность в этом новом деле заключалась в составлении учебных книг на русском языке, который он знал явно недостаточно. Как уже говорилось, Тессинг говорил по-русски, а в письме Петру от 8 (18) июля 1698 года утверждал даже, что занимается переводом с латыни биографии Александра Македонского (хотя, скорее всего, перевод по его заказу делал другой человек, о котором будет подробно сказано дальше)46. Тессинг должен был также знать латынь (по крайней мере, на гимназическом уровне) и немецкий язык (на нем написаны несколько из его писем). Вполне также вероятно, что, как и немало голландцев того времени, он в какой-то мере владел еще французским. Мы знаем также, что он собирал предметы искусства и антиквариат, писал стихи, то есть был человеком, как мы бы сегодня сказали, вполне культурным и образованным47. Однако никаких специальных знаний и никакого опыта составления русских книг научного содержания и организации русской типографии он явно не имел. Это значило, что для реализации договоренности с русским царем ему нужен был партнер (или помощник) для решения нескольких сложных задач.
Им должен был стать человек, который не только хорошо знал церковнославянский и разговорный русский, но и владел основными языками европейской науки – современными и древними. К тому же этот человек должен был иметь достаточно знаний и умений, чтобы сделать понятным содержание трудов ученых европейцев российским читателям. В общем, не вызывает сомнений, что, соглашаясь на предложение царя, купец брал на себя очень непростые обязательства.
Впрочем, риск, которому он себя подвергал, заключался не только в перечисленных трудностях, но и в коммерческой стороне нового предприятия. Вряд ли для Тессинга, как и для других голландских купцов, торговавших с Московией, было секретом, что особого коммерческого успеха от продаж там «ученых» книг ожидать не стоит48. Безразличие московитов к учению в Европе того времени вообще считалось чем-то само собой разумеющимся. О полном отсутствии у них тяги к наукам на протяжении по меньшей мере двух столетий писали иностранцы, посещавшие владения русских государей. Самым известным автором среди них был Сигизмунд Герберштейн, «Записки о Московии» которого в XVI веке выдержали десятки изданий на немецком, латинском, итальянском, английском языках. Это сочинение Герберштейна часто издавалось под одной обложкой с рассказами о Московии Паоло Джовио и Антонио Поссевино, свидетельствовавшими о том же самом. Голландцам, интересовавшимся русскими делами, должна была быть известна и книга Жака Маржерета «Состояние Российской державы и Великого княжества Московского», второе французское издание которой вышло в 1669 году49. В ней Маржерет объявлял о бедственном положении наук в российском государстве не менее прямолинейно, чем другие европейские путешественники – как до, так и после него50. Тессинг, конечно, совсем не обязательно был знаком с книгой Маржерета – как и с сочинениями Герберштейна, Джовио и Поссевино. Однако он не мог не слышать подобные суждения об общем положении дел с науками в России от кого-нибудь из своих современников.
Двое из этих современников жили в то время в Амстердаме и имели самое непосредственное отношение к издательскому делу51. Первый – это Ян Блау II, сын и преемник известного картографа и типографа Яна Виллема Блау I. Когда до Блау-младшего дошло известие о намерении Яна начать печатание русских книг по указу Петра, он высказался о его перспективах совершенно недвусмысленно: дело это заведомо обречено на провал из‑за полного отсутствия у московитов интереса к учению. Причем их безразличие к наукам он считал совершенно очевидным и потому не нуждающимся ни в каких объяснениях. «…Москвитяне, как и вам это известно, – писал он в 1700 году, – нисколько тем не интересуются; они все делают по принуждению и в угоду царю, а умри он – прощай наука»52. Корреспондентом Блау-сына в данном случае был шведский ученый-славист и дипломат Юхан Спарвенфельд, живо интересовавшийся русскими делами, в особенности русским книгоизданием. Интерес же его к предприятию купца был вполне прагматичным: ученый швед искал славянскую типографию для публикации латинско-русского словаря (Lexicon Slavonicum), работе над которым посвятил долгие годы и который считал главным трудом своей жизни53.
Помимо отсутствия у московитов тяги к наукам, успех нового предприятия вызывал сомнения современников Тессинга еще и вследствие отсутствия у того знаний, необходимых для организации работы русской типографии. О его неготовности к этому делу свидетельствовал другой голландский информатор Спарвенфельда, амстердамский издатель Себастиаан Петцольд, как и Блау II, скорее всего, узнавший о петровском указе из его перевода, напечатанного купцом. В отправленном в этом же году письме в Стокгольм Петцольд высказывался о перспективах предприятия купца довольно скептически: «У Тессинга привилегия на 15 лет, но он очень еще мало сделал, да и нет у него к тому способностей»54. К такому заключению Петцольд еще прибавлял, что купцу будет трудно найти в Амстердаме знающего компаньона, необходимого для создания типографии и ее успешной работы: «…разве захочет человек более ученый вмешаться в это дело и сделаться товарищем по предприятию, что очень бы хотелось Тессингу; но трудно ему будет сыскать такого человека»55.
Вряд ли Тессинг знал о содержании этих писем Спарвенфельду, однако трудно предположить, что, принимая предложение Петра, он не отдавал себе отчета о высказанных в них сомнениях. Но тогда, спрашивается, почему он дал царю свое согласие? Ответ у меня получается один: он рассчитывал заключить с ним в будущем другие, более выгодные контракты. Охотное согласие купца исполнить волю Петра, скорее всего, подкреплялось еще и тем, что необходимый для нового предприятия «человек более ученый» на примете у него уже имелся. Это был выходец из белорусских земель Великого княжества Литовского Илья Федорович Копиевский (или Копиевич), протестантский пастор, обучавший в 1697–1698 годах в Амстердаме русских дворян и волонтеров разным наукам56.
Почему Амстердам
Если Тессинг явно был не самой подходящей кандидатурой для реализации этого издательского проекта Петра, то родной город купца Амстердам – едва ли не лучшим выбором из всех возможных. В конце XVII века, оттеснив на второй план Венецию, он стал важнейшим книгоиздательским центром Европы, производившим огромное количество самой разнообразной печатной продукции: от различных объявлений, каталогов товаров, газет и листовок до многотомных, богато иллюстрированных трудов по картографии, морскому делу, астрономии, анатомии и всем другим наукам, известным в то время в Европе.
Новое место Амстердама в европейском книгопечатании было обусловлено не только его возросшей ролью в мировых финансах и торговле, но также в науке и культуре. Тому, что город стал в это время культурной столицей Европы, сравнимой по своему значению с Лондоном и Парижем, в значительной мере способствовала и открытость политики правительства Голландии в отношении иммигрантов, которые, спасаясь от религиозных и/или политических преследований, стекались сюда со всей Европы. Большинство их были протестантами, причем нередко – людьми известными: писателями, учеными, богословами, уже завоевавшими признание у себя на родине. Эти новые граждане Республики Соединенных провинций сыграли важную роль в превращении ее в новый центр европейской науки. Во многом благодаря им старейший в стране Лейденский университет во второй половине XVII века завоевал славу центра кальвинистского образования, а университет Амстердама с его богатой библиотекой получил известность как один из центров распространения в Европе философских и исторических знаний.
Массовая иммиграция в Голландию сформировала и новый демографический состав ее населения: полиэтничный, поликонфессиональный, мультикультурный и мультиязычный. В особенности Амстердама, где, по подсчетам Фернана Броделя, в конце XVII столетия проживало около 200 000 человек, до половины из которых составляли иммигранты первого поколения57. Необычайная пестрота населения страны не могла не оказать влияние на разнообразие репертуара производившейся в ней печатной продукции, выходившей здесь, помимо голландского, на десятках других языков. В первую очередь, конечно, на наиболее распространенных в Европе того времени французском, немецком, итальянском, английском и латинском, но также и на гораздо менее востребованных вроде идиша, армянского или грузинского58. Известно также, что в Амстердаме второй половины XVII века имелись и словолитчики, изготавливавшие кириллические шрифты59.
Так что вряд ли выбор места для русской типографии Петром был спонтанным или случайным. Скорее, случайностью можно считать, что за это дело взялся купец, далекий от наук. Однако у него было достаточно средств на приобретение оборудования и бумаги, наем работников и, главное, на привлечение к составлению и изданию русских книг Ильи Копиевского, без которого Тессингу не удалось бы реализовать обещанное Петру.
Почему не Москва
Гипотетически, царь, конечно, мог приказать печатать «ученые» книги не в Амстердаме, а в Москве на Печатном дворе, где для этого имелось достаточно типографских возможностей. Однако на практике сделать это было очень непросто в силу иных обстоятельств. Прежде всего из‑за того, что в Московской типографии традиционно издавались книги духовного содержания, причем с обязательного благословения патриарха. При таком положении дел печатание в ней карт и разных учебных книг по арифметике, истории, астрономии, мореплаванию и т. д. вряд ли было уместным. Тем более что это были переводы или переложения сочинений иноверцев. Их появление явно могло озадачить русских читателей, привыкших извлекать из изданий Московского печатного двора исключительно сакральные смыслы60.
Но все же главным препятствием здесь, по-видимому, была бы позиция иерархов Русской православной церкви, открыто демонстрировавших нетерпимость ко всему иноверческому. Хорошо известно, что в 1689 году непримиримый противник западного влияния на Русскую церковь патриарх Иоаким по голословному обвинению иезуитов в мятеже настоял на высылке их из страны. Он также наставлял российских государей всячески остерегаться любого сближения с иноверцами и не только запрещать им строить молитвенные дома, но и снести уже имевшиеся61. Вступивший на патриарший престол в 1690 году преемник Иоакима Адриан оказался еще большим традиционалистом и ригористом. Он открыто выступал против намерений Петра европеизировать русскую культуру, в частности против обучения российских подданных, следуя европейским образцам.



