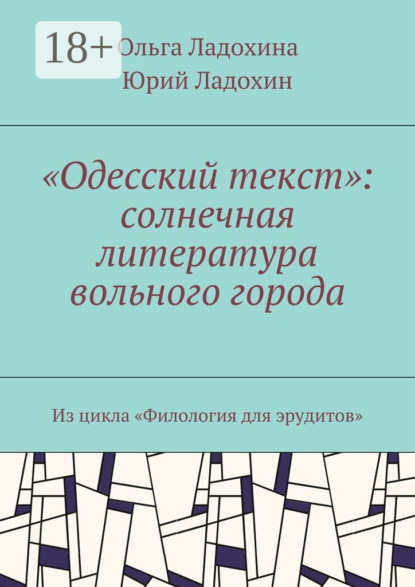
Полная версия:
«Одесский текст»: солнечная литература вольного города. Из цикла «Филология для эрудитов»
Третья попытка, в товарном вагоне Северного укладочного городка удалась на славу: «Наконец, Корейко вылез из-под кровати, подобвинув к ногам Остапа пачки с деньгами, каждая пачка была аккукратно заклеена в белую бумагу и перевязана шпагатом… – Вот я и миллионер! – воскликнул Остап с веселым удивлением. – Сбылись мечты идиота!» [Там же, с. 281].
Но радость была недолгой. Через несколько месяцев король превращается в шута: «И вообще было плохо. Начальник станции не брал под козырек, что в былые времена проделывал перед любым купчиной с капиталишком в пятьдесят тысяч… пресса не торопилась брать интервью и вместо фотографий миллионеров печатала портреты каких-то ударников, зарабатывающих сто двадцать рублей в месяц» [Там же, с. 296]. Окончательно развеивает олигархические иллюзии новоиспеченного советского миллионера встреча в московской гостинице со знаменитым философом из далекой Индии: «Настоящий индус, видите ли, все знает про нашу обширную страну, а я, как оперный индийский гость, долблю все одно и то же: „Не счесть алмазов пламенных в лабазах каменных“. До чего гадко!» [Там же, с. 296].
Но метаморфозы «король-шут» – это не только фантастические перевертыши в дни буйных празднеств наступления весны. В канву этих представлений в средневековой Англии, где центральные роли в обряде играли «майский король» Робин и дева Марион, вплетались и идеи борьбы с социальным неравенством. Как отмечал Р. Назиров, «в XIVвеке, когда антифеодальная борьба английских крестьян достигла кульминации, мифологические формы Робина и Марион отливаются в псевдо-историческую форму: складывается легенда о шайке Робин Гуда, ведущей вольную жизнь в Шервудском лесу» [Назиров 1997, с. 72].
Беню и Остапа трудно представить себе в ангельском обличии; их подлинная страсть – авантюра и приключения; но робингудовские черты иногда просвечивают. Чем иначе объяснить широкие жесты Бени Крика, без раздумий нарушающего законы, но имеющего своеобразные, но вполне разумные «понятия» о совести и чести. Грабеж есть грабеж, но когда во время налета на лавку Тартаковского нелепо погибает приказчик Иосиф Мугинштейн, Король одесских воров находит слова утешения для его несчастной матери: «Похороны Иосифа будут по первому разряду: шесть лошадей, как шесть львов, две колесницы с венками, хор из Бродской синагоги, сам Миньковкий будет отпевать покойного вашего сына…» [Бабель 2009, с. 25].
Непросто дался Остапу Бендеру миллион, отнятый у хитроумного Корейко, но с чемоданом денег, он «потомок янычаров, ни черта не мог сделать! Вот навалился класс-гегемон на миллионера-одиночку!» [Ильф, Петров 2009, с. 317]. И тогда по просьбе Остапа чемодан с дензнаками зашили в рогожку, и великий комбинатор «взял химический карандаш и, возбужденно махнув им в воздухе, написал: ЦЕННАЯ Народному комиссару финансов. Москва» [Там же, с. 318]. И пусть через некоторое время чемодан возвратится к своему владельцу… но сам порыв!
Английские игры в «майского короля» во многом проистекают из греческих «игр Диониса», который в иерархии Олимпийцев был признан богом вина и веселья. Времена античных Титанов завораживают потомков стремлением найти в природе вечную жизнь и спасение, накалом страстей и мощью героических усилий. Казалось, уж как далек от греческих Титанов Король одесского разбоя, но масштабы честолюбивых устремлений разве не схожи? – «Вам двадцать пять лет, если бы к небу и к земле были приделаны кольца, вы бы схватили бы эти кольца и притянули бы небо к земле» [Бабель 2009, с.20]. А великий комбинатор – чем не Антей в эпизоде перехода румынской границы? – «Остап боролся за свой миллион, как гладиатор. Он сбрасывал с себя врагов и подымался с земли, глядя вперед помрачневшим взором» [Ильф, Петров 2009, с. 328].
Главные персонажи романов не одиноки в своих «титанических усилиях», но итог их свершений почти всегда печален, а восторг авторов перед мощью этих фигур притушовывается размышлением о тщетности людских устремлений и легкой иронией. Вот конец жизненного пути главаря сорока тысяч одесских воров: «Фроим Грач лежал… распростертый под брезентом у стены, увитой плющом… Чисто медведь, – сказал старший, увидев Борового, – это сила неимоверная… Такого старика не убить, ему б износу не было… В нем десять зарядов сидит, а он все лезет…» [Бабель 2009, с. 62]. А этот фрагмент – о нелепой смерти спортсмена страны Советов, поставившего перед собой небывалую задачу: «Это советский пешеход-физкультурник, который вышел из Владивостока юношей и на склоне лет у самых ворот Москвы был задавлен тяжелым автокаром, номер которого так и не успевают заметить» [Ильф, Петров 2009, с. 6].
Метаморфозы «майского короля», «дионисийские игры» отнюдь не ограничиваются перевертышами общественных отношений, перепадами побед и поражений, разгулом и весельем. Философская подоплека этих массовых действ – в основополагающих законах единства и борьбы противоположностей: аскетизма и изобилия, рационального и бессознательного, индивидуального и коллективного. Как отмечал Вячеслав Иванов, «дионисийский хмель есть состояние выхода из граней я; разрушение и снятие индивидуальности; ужас этого освобождения и погружения в единство и первооснову сущего, приобщение к воле и страде вселенной…» [Иванов 1989, с. 317].
В описании устремления героев в дионисову стихию на страницах «Одесский рассказов» И. Бабель не жалеет ярких красок. Вот гимн изобилию, царившему на свадьбе сестры Бени Крика: «Все благороднейшее из нашей контрабанды, все, чем славна земля из края в край, делало в ту звездную, в ту синюю ночь свое разрушительное, свое обольстительное дело. Нездешнее вино разогревало желудки, сладко переламывало ноги, дурманило мозги и вызывало отрыжку, звучную, как призыв боевой трубы» [Бабель 2009, с. 16]. А это – описание страстей и мелодий винного погребка на Дальницкой улице: «В погребе горели уже лампы и играла музыка. Старые евреи с грузными бородами играли румынские и молдавские песни, Мендель Крик пил за столом вино из зеленого стакана и рассказывал, как его искалечили собственные сыновья…» [Там же, с. 34]. А здесь – погружение в «первооснову сущего» знаменитого на всю Одессу мастера обрезаний Нафтулы: «Отрезая то, что причиталось, он не отцеживал кровь через стеклянную трубочку, а высасывал ее вывороченными своими губами. Он выходил к гостям захмелевшим. Медвежьи глазки его сияли весельем…» [Там же, с. 73].
Эпикурейство персонажей «Золотого теленка» обрисовано в более акварельных тонах. Стремление к дионисийскому хмелю чувствуется, но само действо происходит уже без надрыва, с основательностью нэпмановских времен. Это – вечеринка перед отъездом руководителя «Геркулеса» в Москву: «Проводы прошли очень весело. Сотрудники преданно смотрели на Полыхаева, сидевшего с лафитничком в руке, ритмично били в ладоши и пели: – Пей до дна, пей до дна, пейдодна, пей до дна, пей до дна, пейдодна» [Ильф, Петров 2009, с. 106]. В еще одном эпизоде – впечатления повара, приготовившего банкет по случаю завершения строительства Восточной Магистрали и увидевшего… «страшную сцену разграбления стола. Это до такой степени не походило на разработанный Иваном Осиповичем церемониал принятия пищи, что он остановился. Англичанин с теннисной талией беззаботно ел хлеб с маслом, а Гейнрих, перегнувшись через стол, вытаскивал пальцами маслину из селедочного рта» [Там же, с. 277].
Не обошли игры Диониса и главного героя романа, вспоминающего вчерашний вечер в «Гранд-Отеле»: «Что это было? – пробормотал он, гримасничая. – Гусарство в ресторанном зале! И даже, кажется, какое-то кавалергардство! Фу! Держал себя как купец второй гильдии!» [Там же, с. 300]. Да, несолидно и неразумно блестящему Мастеру авантюры опускаться до уровня ушедшего в загул торгаша. Несмотря на зигзаги судьбы, каждый, как думается, должен стремиться сохранять достоинство и трезвый ум. Так, как основатель битничества, американский поэт Аллен Гинзберг, которому принадлежат эти слова: «Майским королем лечу я по небу за своей бумажной короной… // Я майский король с гипертонией, диабетом, подагрой, парезом, камнями в почках и спокойными очками, // И более не ношу дурацкой короны неразумия и немудрости, не боюсь – не надеюсь на капиталистический галстук в полоску и коммунистические бумажные брюки…» [Гинзберг 1996, с. 9].
Глава 4. «Милей писать не с плачем, а со смехом…» (комическое в произведениях писателей-одесситов)
Произведения «одесского текста» буквально наполнены комическими ситуациями, пародийными элементами и иронией. Природа смешного разнообразна, но прежде всего, как считает Умберто Эко, смех – это вызов догматизму во всех его проявлениях. По мнению автора «Имени розы», такой вывод можно сделать, исходя из логики исследования природы комического, предпринятого еще Аристотелем в трактате «Поэтика», посвященном теории драмы: «Комедия… есть воспроизведение худших людей, однако не в смысле полной порочности, но поскольку смешное есть часть безобразного: смешное – это некоторая ошибка и безобразие, никому не причиняющее страдание и ни для кого не пагубное, так комическая маска есть нечто безобразное и искаженное, но без [выражения] страдания» [Аристотель, 1957, с. 53].
Эти слова древнегреческого мыслителя о комической маске словно предсказывают то значение, которое для европейской культуры приобретает карнавал, появившийся последовательно в IX – X веках в Италии, Франции и Германии. Карнавал (от итальянского carne vale – «прощание с мясом») своим многоголосым костюмированным представлением наполняет гимн грубой, но обаятельной плотью («мясом») бытия, намеренно утрируя образы привычной, обыденной жизни (в дни народного веселья они становятся «безобразными»), а смех карнавального представления становится лучшим, может быть, и единственным способом поиском истины.
В «Одесских рассказах» яркий карнавальный оттенок имеют и наблюдаемая многочисленными жителями Молдаванки картина передачи биндюжного хозяйства папашей Криком его сыновьям, и пышная свадьба Двойры Крик, на которой налетчики не уступают в колоритности даже персонажам комедии дель арте: малиновые жилеты, рыжие пиджаки, кожаные брюки цвета небесной лазури. В «Золотом теленке» духом непредсказуемого многоцветного действа на площади Сан Марко веет и от творческого ералаша, царящего на 1-й Черноморской кинофабрике, и от шествия по большим праздникам сотрудников «Геркулеса» с агитационным гробом «Смерть бюрократизму!». В повести В. Катаева о Пете и Гаврике роль революционного карнавала исполняет рабочая маевка на одесских шаландах, а роль венецианского денди играет матрос Жуков: «…на нем были кремовые брюки, зеленые носки и ослепительно белые парусиновые туфли… из кармана синего пиджака высовывался алый шелковый платок [Катаев, с. 269].
И все-таки карнавал – это фейерверк, краткая вспышка веселья в череде будней. В повседневности же смех возникает каждый раз, когда, по мнению А. Бергсона, жизнь подменена автоматизмом, и перед нами «тело, берущее перевес над душой… форма, стремящаяся господствовать над содержанием, буква, спорящая с духом» [Бергсон 1992, с. 39]. Постоянно соприкасаясь с механистичностью, со стремлением стереть черты индивидуальности, смех выступает уже не только в части «комического», но и соответствует основополагающим устремлениям общества сохранить динамику развития за счет пассионарности его членов.
В «Одесских рассказах» И. Бабеля Беня Крик, Любка Казак, бывший маклер Цудечкис даже на фоне приморских жовиальных авантюристов смотрятся рыцарями наживы. Обаяние и колоритность этих персонажей так велики, что нередко многоходовые аферы, а иногда и прямой разбой могут восприниматься захватывающими плутовскими приключениями, вызывающими улыбку. В «Золотом теленке» сонный нэпмановский быт провинциальных городков страны Советов оглушается гейзеровскими извержениями неистощимой фантазии великого комбинатора, а роуд-муви экипажа «Антилопы Гну» порождает калейдоскоп комических ситуаций и происшествий. В повести В. Катаева таких ситуаций значительно меньше. Здесь искры юмора внеожиданно высекаются из исторических событий 1905 года – из столкновений представителей пробуждающейся к революции страны и уходящей царской России.
Смех – оружие острое, иногда безжалостное, но почти всегда – легкое и искромётное. А где искать авторам из Одессы – этого Марселя на Черном море, секрет грациозности, граничащей с легкомыслием, как не у французских классиков? Это наше допущение, но чем не пример для создателей «одесского текста» такие признанные мастера юмора, как Франсуа Рабле и Альфонс Доде?
Говоря о главном мастере смешного эпохи Ренессанса, Гилберт Честертон отмечал, например, что «Рабле открыл новую главу в истории юмора, показав, что на интеллект может воздействовать мощная энергия физического раскрепощения, которая комична уже потому, что откровенно развязна. Рабле навсегда остается певцом веселого нетерпения, тех бесшабашных порывов, когда человеческое воображение пылает, как печка» [Честертон 1984, с. 384].
А. Доде далек от пряной, «гарганьтюанской» мощи стилистики Ф. Рабле. Его стихия – роман нравов, легкий и веселый. Главная его изюминка – тип южанина с его склонностью к бахвальству, преувеличениям, порой не безобидным, и отсутствием чувства меры. Его «товарный знак» – Тартарен из Тараскона, можно так сказать, Дон Кихот и Санчо Пансо в одном лице. Самая известная трилогия современника Флобера, Золя, братьев Гонкур («Необычайные приключения Тартарена из Тараскона», «Тартарен в Альпах», «Порт-Тараскон») – о мелком буржуа из городка на юге Франции с душой шестнадцатилетнего школьника, начитавшегося книг с авантюрным сюжетом.
Отмечая парадоксальное совмещение в одном персонаже двух противоположным по качествам героев романа Сервантеса, А. Доде пишет, что «Тартарену, к несчастью не хватало костлявого, худого тела знаменитого идальго, этой тени тела, нечувствительного к физическим лишениям… Тело Тартарена было, наоборот, жирное, грузное, чувственное, изнеженное, вечно недовольное, с буржуазными вкусами, очень взыскательное. Словом, пузатое и кургузое тело бессмертного Санчо Пансо» [Доде 1935, с. 5].
В искусстве смеха сатирический, обличительный аспект вовсе не обязательно становится преобладающим, но по своей природе искусство постоянно обращается не к частностям, а наиболее общим, злободневным вопросам социума. Соприкасаясь с механистичностью, обезличенностью, «неотделимой от общественной жизни, хотя и невыносимой в обществе» [Бергсон 1992, с. 107], смех становится – иной раз и вопреки субъективным устремлениям к «чистому комизму» – соотносимым с «известными требованиями совместной жизни людей» [Там же, с. 14]. Яркое подтверждение этой мысли – природа смешного в романе Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», первая часть которого вышла в 1533 году.
Основой романа послужила лубочная книга «Великие и неоценимые хроники о великом и огромном великане Гаргантюа», которая содержала явную сатиру на фантастику и авантюрную героику старых рыцарских романов. Но если главный герой великой испанской пародии Мигеля Сервантеса на рыцарские романы – восторженный, несуразный мечтатель Дон Кихот, то основной персонаж романа Ф. Рабле – полный жизненных соков и энергии, не лишенный практичности великан Гаргантюа. Ироничное, местами бесшабашное, произведение знаменитого французского гуманиста, думается, наносит отживающему Средневековью богатырские удары, от которых бастионы мракобесия валятся с таким же гулом, как укрепления Ведского замка под ударами дубины Гаргантюа.
Объектами едких насмешек Рабле становятся разные аспекты и персонажи современной ему действительности. Это и католическая церковь: «…монахи пожирают людские отбросы, то есть грехи и, как дерьмоедам, им отводят места уединенные, а именно монастыри и аббатства, так же обособленные от внешнего мира, как отхожие места от жилых помещений» [Рабле 1981, с. 88]. И еще – о служителях веры: «Ряса давит вам на плечи, снимите ее! – Друг мой, – сказал монах, – пусть она останется при мне, ей-богу, мне в ней лучше пьется, от нее телу веселее. Ежели я ее скину, господа пажи наделают себе из нее подвязок, как это уже однажды со мной случилось в Кулене» [Там же, с. 86].
Это и штампы в эстетике и литературе. К примеру: «Кто вам внушил, что белый цвет означает веру, а голубой – стойкость? „Одна никем не читаемая и не почитаемая книга под названием Геральдика цветов, которую можно купить у офеней и книгонош“, – скажете вы. А кто ее сочинил? Кто он ни был, он поступил благоразумно, не указав своего имени… И точно (видно, правду говорит пословица: было бы корыто, а свиньи найдутся): он нашел каких-то допотопных простофиль, и вот эти-то простофили и поверили его писаниям; накроив по ним изречений и поучений, они разукрасили ими упряжь своих мулов и слуг, разрисовали ими свои штаны, вышили их на перчатках, выткали на пологах, намалевали на гербах, вставили в песни…» [Там же, c. 40]. И на ту же тему: «Время это самое подходящее для того, чтобы писать о таких высоких материях и о таких важных предметах, что уже прекрасно понимали Гомер, образец для всех филологов, и отец поэтов латинских Энний, о чем у нас есть свидетельство Горация, хотя какой-то межеумок и объявил, что от его стихов пахнет не столько елеем, сколько вином» [Там же, с. 25].
Это и застывшие традиции в воспитании: «В возрасте от трех до пяти лет Гаргантюа растили и воспитывали по всем правилам, ибо такова была воля его отца. И время он проводил, как все дети в том краю, а имеено: пил, ел и спал; спал и пил; спал, пил и ел… Даровому коню неукоснительно смотрел в зубы, начинал за здравие, а кончал за упокой, в бочку дегтя поливал ложку меда, хвост вытаскивал, а нос у него завязал в грязи, охранял луну от волков, считал, что если бы да кабы у него во рту росли бобы, то был не рот, а целый огород…» [Там же, с. 43 —44].
Это и штампы в бытовых ситуациях: «В монастырях все размерено, рассчитано и расписано часам, именно поэтому мы постановим, чтобы там не было ни часов, ни циферблатов, – все дела будут делаться по мере надобности и когда удобнее, ибо считать часы – это самая настоящая потеря времени» [Там же, с. 106].
Палитру насмешек Рабле расцвечивает искрометной игрой слов и словесными бессмыслицами: «Идите мимо, лицемер, юрод, // Глупец, урод, святоша-обезьяна, // Монах-лентяй, готовый, словно гот // Иль острогот, не мыться целый год…» [Там же, с. 108]; «Вот до чего дошли эти придворные щеголи и суесловы! Если они избирают своим девизом веселье, то велят изобразить весло; если кротость, то – крота; если печаль, то – печать; если рок, то – бараний рог; если лопнувший банк, то – лопнувшую банку; если балкон, то – коней на балу; если восторг, то воз и торг» [Там же, с. 40]; «А вот теперь скажите, – продолжал Гаргантюа, – какого цвета хвост платья у моей матери? – Про хвост ничего не могу сказать, – отвечал конюший. – Сам признался, что ты прохвост, – подхватил Гаргантюа» [Там же, с. 45]; «Если б я так же умел ржать, как жрать, из меня вышел бы славный жеребчик» [Там же, с. 43].
Ирония А. Доде в повести «Порт-Тараскон» (вышедшей в 1890 году) направлена на высмеивание легковерных и склонных к легкой наживе мелких буржуа Тараскона, ставших жертвой крупной аферы по переселению жителей этого города в колонию на одном из островов вблизи экватора. Это, кроме того, и ядовитая сатира на колониальную политику Франции конца XIX века (имевшую виды на Египет), а также на биржевую деятельность различных аферистов, надувавших десятки тысяч мелких акционеров, в том числе, например, в случае с ценными бумагами Панамского канала.
Основная мишень для писателя – главный герой произведения – очень деятельный, обаятельный, но недалекий охотник и жизнелюб Тараскон. Именно он, очарованный «полинезийскими сказками» герцога де Монса, возглавил переезд тарасконцев к пальмам и кокосам. Хотя, проштудировав записки знаменитых путешественников, тем не менее не имел реального представления ни о возможных трудностях такого грандиозного предприятия (»«Вы слишком много берете, мои дети. Вы найдете там все, что нужно». Сам он оставил все свои стрелы, свой баобаб, своих золотых рыбок, довольствуясь только одним американским карабином в тридцать два заряда и запасом фланели» [Доде 1935, c. 272]), ни о традициях туземцев, живущих на тропическом острове: «Он знал, как это устроить, прочитав все рассказы мореплавателей, зная наизусть Кука, Буженвиля, Антрекасто. Он подошел к королю и потер своим носом его нос. Дикарь, казалось, был изумлен, ибо такого обычая уже давно не существовало у этих племен. Но, вероятно, думая, что это какая-нибудь тарасконская манера здороваться, он принял ее» [Там же, с. 306].
Не отстают от своего простодушного предводителя и сами горожане: «Знаменитые гектары земли по пять франков (дохода несколько тысяч в год) разбирались нарасхват. Принимались также подарки, посылаемые отовсюду ревнителями дела на нужды колонии… в числе которых находились самые необыкновенные вещи:… От мсье Бекуле: сорок пять головных сеток из синели и бусы для индейских женщин… От неизвестной: вышитое знамя для хорового кружка. От Андюзде Магелон: чучело фламинго. От семейства Марг: шесть дюжин собачьих ошейников» [Там же, с. 264]. Трогательно смотрятся и безуспешные потуги горячих южан устроить на тропическом острове Порт-Тараскон привычную им корриду: «Словно какой-то рок тяготеет над этим злополучным боем быков, который тарасконцы с такой радостью думали устроить здесь: для этого нарочно привезли сюда несколько коров и одного быка из Камарго – Римлянина, прославившегося на празднествах в Провансе. Вследствие дождя… Римлянин исчез. Теперь он топчет лес, сделался диким, настоящим бизоном. И вместо того, чтобы самому бегать от нас, он всех нас обращает в бегство» [Там же, с. 302].
Неизменная отрада тарасконцев, чуть ли ни единственное универсальное средство от всех болезней и печалей – чесночный суп. Но и он, как оказалось, бессилен в некоторых случаях, как например, при сведении обширных татуировок у аптекаря Безюке, нанесенных полинезийскими дикарями и чудом избегавшего каннибальского обеда: «Несчастный Фердинанд! Ни мази, ни припарки – ничто не помогает, даже чесночный суп, рекомендованный доктором Турнатуаром. На всю жизнь у него останутся эти адские украшения» [Там же, C.369].
Одесская «братва» начала ХХ века, описанная И. Бабелем, казалось бы, изрядно далека и по времени, и по расстоянию от туземцев экваториальной Полинезии, но нравы «аристократов Молдаванки», как преставляется, не так уж чужды наклонностям дикарей Порт-Тараскона. Вот эпизод о свадьбе сокаролетней Двойры, сестры Бени Крика: «Налетчики, сидевшие сомкнутыми рядами, вначале смущались присутствием посторонних, но потом разошлись. Лева Кацап разбил на голове своей возлюбленной бутылку водки. Моня Артиллерист выстрелил в воздух…» [Бабель 2009, с. 17]. Этот фрагмент – о мнимых похоронах крупного одесского торговца: «Он спросил: – Кого хоронят с певчими? Прохожие ответили, что хоронят Тартаковского. Процессия дошла до Слободского кладбища. Тогда наши вынули из гроба пулемет и начали сыпать по слободским громилам» [Там же, с. 21]. А это событие произошло уже позже, после Октябрьской революции: «В девятнадцатом году люди Бени Крика напали на арьергард добровольческих войск, вырезали офицеров и отбили часть обоза. В награду они потребовали у Одесского Совета три дня „мирного восстания“, но разрешения не получили и вывезли поэтому мануфактуру из всех лавок, расположенных на Александровском проспекте» [Там же, с. 58].
Но со страниц «Одесских рассказов» не веет ощущением безысходной жестокости, кровавые эпизоды перемежаются со смешными сценками одесской жизни; всё как-то по-домашнему в патриархально-трогательной южной столице России, всегда можно договориться. Тот же Король воров Беня Крик произносит проникновенные, можно сказать, философские слова на похоронах нелепо попавшего под выстрел приказчика Иосифа Мугинштейна: «Есть люди, уже обреченные смерти, и есть люди, не начавшие жить. И вот пуля, летевшая в обреченную грудь Иосифа, не видевшего в своей жизни ничего, кроме пары пустяков. Есть люди, умеющие пить водку, и есть люди, не умеющие пить водку, но все же пьющие ее. И вот первые получают удовольствие от горя и от радости, а вторые страдают за всех тех, кто пьет водку, не умея пить ее» [Там же, с. 27]. А алчного, не знающего жалости к конкурентам Тартаковского жители приморского города предпринимателей и авантюристов не воспринимают, как инородное тело: «У Тартаковского душа убийцы, но он наш. Он вышел из нас. Он наша кровь, Он наша плоть, как будто одна мама нас родила. Пол-Одессы служит в его лавках. И он пострадал от своих же молдаванских. Два раза они выкрадывали его для выкупа, и однажды во время погрома хоронили его с певчими» [Там же, с. 21].
У Альбера Камю есть своеобразное, но очень проницательное определение природы смешного: «доберитесь до самого дна пропасти отчаяния, и если вы попробуете копнуть еще ниже, то найдете там юмор» Для автора «Одесских рассказов» этот тезис весьма близок по мироощущению. Надеждой прорывается юмор из-под безжалостных ног Бени Крика, избивающего обманувшего его Цудечкиса: «Продолжая плакать, он топтал меня ногами. Моя супруга, видя, что я сильно волнуюсь, закричала. Это случилось в половине пятого, кончила она к восьми часам, Но она же ему задала, ох, как она ему задала!» [Бабель 2009, с. 48].



