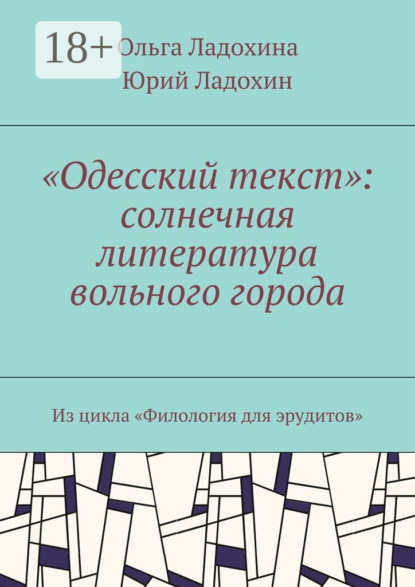
Полная версия:
«Одесский текст»: солнечная литература вольного города. Из цикла «Филология для эрудитов»
Беззлобная ирония вспышками атмосферного электричества освещает незамысловатые будни одесского люда и приезжих крестьян: «Дикие мужики из Нерубайска и Татарки, остановившиеся на Любкином постоялом дворе, полезли под телеги и заснули там диким заливистым сном, пьяный мастеровой вышел к воротам и захрапел посреди мира, весь в золотых мухах и голубых молниях июля» [Там же, с. 38]. Смешные слова деда остановили третий заход внука к «бочке сведения счетов с жизнью»: «Во второй раз я выдержал дольше, вода хлюпала вокруг меня, мой стон уходил в нее. Я открыл глаза и увидел на дне бочки парус рубахи и ноги, прижатые друг к дружке. У меня снова не хватило сил, я вынырнул. Возле бочки стоял дед в кофте. Единственный его зуб звенел. – Мой внук, он выговорил эти слова презрительно и внятно, – я иду принять касторку, чтобы мне было что принесть на твою могилу…» [Там же, с. 111].
Героям «Золотого теленка» до ватерлинии отчаяния еще далеко – все-таки Россия нэпмановская поднимается с ног после нескольких лет голодного военного коммунизма. Но место под солнцем достается в не менее острой, чем по дарвиновской теории, борьбе. Это справедливл хоть для прохиндеев – мнимых потомков знаменитых фамилий: «Постепенно упорядочили свою деятельность внуки Карла Маркса, кропоткинцы, энгельсовцы и им подобные, за исключением буйной корпорации детей лейтенанта Шмидта, которую на манер польского сейма, вечно раздирала анархия. Дети подобрались какие-то грубые, жадные, строптивые и мешали друг другу собирать в житницы» [Ильф, Петров 2009, с. 19]).
Хоть для первых рекламщиков 30-х годов прошлого века: «Или другой, европейский могикан пешеходного движения. Он идет пешком вокруг света, катя перед собой бочку. Он охотно пошел бы так, без бочки; но тогда никто не заметит, что он действительно пешеход дальнего следования, и про него не напишут в газетах. Приходится всю жизнь толкать перед собой проклятую тару, на которой к тому же (позор, позор!) выведена большая желтая надпись, восхваляющая непревзойденные качества автомобильного масла «Грезы шофера» [Там же, с. 6]. Хоть для неутомимых искателей приключений и заоблачного счастья: «Вы псих, Балаганов. Счастье никого не поджидает. Оно бродит по стране в длинных белых одеждах, распевая песенку: «Ах, Америка – это страна, там гуляют и пьют без закуски». Но эту наивную детку надо ловить, ей нужно понравиться, за ней нужно ухаживать» [Там же, с. 65].
И. Ильфу и Е. Петрову, похоже, по душе беззлобное подтрунивание над реалиями нэпмановского времени и своими героями. К примеру, над ненавязчивой сферой услуг провинциального Арбатова: «В бедном окне мастерской штемпелей и печатей наибольшее место занимали эмалированные дощечки с надписями „Закрыто на обед“, „Обеденный перерыв от 2 до 3 ч. дня“, „Закрыто на обеденный перерыв“, просто „Закрыто“, „Магазин закрыт“ и, наконец, черная фундаментальная доска „Закрыто для переучета товаров“. По-видимому, эти решительные тексты пользовались в городе Арбатове наибольшим спросом» [Там же, C.16]. Или над дизайном и потребительскими свойствами автомашины «лорен-дитрих»: «Оригинальная конструкция, – сказал, наконец, один из них, – заря автомобилизма. Видите, Балаганов, что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление – и получилась прелестная колхозная сноповязалка» [Там же, с. 34].
Подшучивают авторы и над уровнем IQ одного из самых обаятельных «антилоповцев»: «Шура, голубчик, восстановите, пожалуйста, статус-кво. – Балаганов не понял, что означает „статус-кво“. Но он ориентировался на интонацию, с какой эти слова были произнесены. Гадливо улыбаясь, он принял Паниковского под мышки, вынес из машины и посадил на дорогу» [Там же, с. 54]. И над стандартным туристическим набором «страны, где по улицам гуляют медведи» (эпизод с американцами, ищущими в провинции рецепт русского самогона): «Чего они здесь делают. На распутье, в диком древнем поле, вдалеке от Москвы, от балета „Красный мак“, от антикварных магазинов и знаменитой картины художника Репина „Иван Грозный убивает своего сына“? Не понимаю! Зачем вы их сюда завезли?» [Там же, с. 67].
Не чужда для авторов «Золотого теленка» и глобальная проблема неравномерного развития различных цивилизаций: «Японский дипломат стоял в двух шагах от казаха. Оба молча смотрели друг на друга. У них были совершенно одинаковые чуть сплющенные лица, жесткие усы, желтая лакированная кожа и глаза, припухшие и неширокие. Они сошли бы за близнецов, если бы казах не был в бараньей шубе, подпоясанной ситцевым кушаком, а японец – в сером лондонском костюме, и если бы казах не начал читать лишь в прошлом году, а японец не кончил двадцать лет назад двух университетов – в Токио и Париже» [Там же, с. 255].
В повести В. Катаева юмористический оттенок приобретают эпизоды, построенные на столкновении традиционных, можно сказать, вековых представлений о царе-батюшке и мальчишеского восприятия самодержца как обычного человека: «Только у Павлика были свои, особые мысли… – Папа… – сказал он вдруг, не отводя глаз от окна, – папа, а кто царь? – То есть как это – кто царь?.. – Ну кто?.. – Вот, ей богу… Кто да кто… Ну, если хочешь, помазанник. – Чем помазанник? – Что-о? – Отец строго посмотрел на сына. – Ну – как: если помазанник, то чем? – Не ерунди! И отец сердито отвернулся» [Катаев 2009, с. 20].
Не укладывается в голове у старшего брата – Пети и известный нелепый эпизод из путешествия Николая II по Японии: «Пете ужасно хотелось спросить тетю, как это и кто бил царя по голове палкой. Главное, почему именно бамбуковой? Но мальчик понимал уже, что существуют вещи, о которых лучше ничего не говорить, а молчать, делая вид, что ничего не знаешь» [Там же, с. 189]. Комический эффект вызывает и неожиданное название прибывшей на рабочую маевку рыбацкой лодки, связанное с не менее известной в России личностью: «Кроме этих шаланд, было еще штуки четыре „Оль“, шесть штук „Наташ“, не меньше двенадцати „Трех святителей“ и еще одна большая очаковская шаланда с несколько странным, но завлекательным названием: „Ай Пушкин молодец“» [Там же, с. 271].
Одним из действенных источников смешного в литературе является гиперболический сдвиг. Термин «гипербола» (греч. hyperbole – избыток, преувеличение; от hyper – через, сверх и bole – бросок, метание) первоначально введенный в обиход древнегреческим математиком Аполлонием Пергским, с ХIII века стал широко использоваться в словесности для обозначения стилистического приема чрезмерного преувеличения каких-либо свойств изображаемого явления с целью усиления впечатления. Виртуозным мастером использования этого литературного приема для создания комического эффекта стал Ф. Рабле. Идя по стопам итальянских поэтов Луиджи Пульчи и Теофило Фоленго, французский писатель с первых страниц романа о великанах Гагрантюа и Пантагрюэле органично включает в ткань повествования ироничные и саркастические ремарки своего авторского отношения к описываемым событиям, а для форсирования сатирической составляющей увеличивает и предметы, и события до гигантских, фантастических масштабов.
Прежде всего, автор поражает доверчивого читателя размерами главного героя. Вот описание детских игрушек сына короля-великана государства Утопия Грангузье: «Сверстники Гаргантюа в тех краях играли в вертушки, и ему тоже смастерили для игры отличную вертушку из крыльев мирбалейской ветряной мельницы» [Рабле 1981, с. 44], и дальше: «Сам Гаргантюа своими руками сделал себе из толстого бревна на колесах охотничью лошадь, из балки от давильного чана – коня на каждый день, а из цельного вяза – мула с попоной, для комнатных игр. Еще у него было около десятка лошадей для подставы и семь почтовых» [Там же, с. 44].
Подросшему принцу после таких детских забав нипочем и взрослые военные игры с королевством Пикрохола: «Выслушав эти донесения, Гаргантюа сел на свою громадную кобылу и вместе с вышеперечисленными сподвижниками тронулся в путь, а по дороге ему попалось высокое и раскидистое дерево (которое прежде обыкновенно называли деревом св. Мартина, потому что оно выросло из посоха, некогда воткнутого в землю св. Мартином), и при виде его он сказал: – Это-то мне и нужно. Из этого дерева я сделаю себе и посох и копье» [Там же, с. 82], и далее: «Но тут негодяй-пушкарь, стоявший у бойницы, выстрелил в Гаргантюа, и ядро с разлета угодило ему в правый висок; однако Гаргантюа ощутил при этом такую же точно боль, как если бы в него запустили косточкой от сливы. – Это еще что? – воскликнул он. – Виноградом кидаться?» [Там же, с. 82].
Подстать циклопическим размерам главного героя и вещи его окружающие: «На его рубашку пошло девятьсот локтей шательродского полотна и еще двести на квадратные ластовицы под мышками… На его куртку пошло восемьсот тринадцать локтей белого атласа. А на шнуровку – тысяча пятьсот девять с половиной собачьих шкурок… На штаны пошло тысяча сто пять с третью локтей белой шерстяной материи… На башмаки Гаргантюа пошло четыреста шесть локтей ярко-голубого бархата… На подошвы употребили тысячу сто коровьих шкур бурого цвета» [Там же, с. 37 – 38]. Завершают наряд щеголеватого принца украшения и перчатки по рецептам египетского основателя астрологии и почитателей книги «Сефер Йецира»: «На шее он носил золотую цепь в двадцать пять тысяч шестьдесят три золотые марки, причем ее звенья были сделаны в виде крупных ягод; между ними висели большие драконы из зеленой яшмы, а вокруг них всё лучи и блестки, лучи и блестки, – такие драконы были когда-то у царя Нехепса… Для его перчаток были употреблены в дело шестнадцать кож, снятых с упырей, а для опушки – три кожи, снятые с вурдалаков. Такого на сей предмет было предписание сенлуанских каббалистов» [Там же, с. 39].
Не уступают объемным одеяниям великана и другие вещи с ним связанные. Чего стоят, например, размеры фамильной усыпальницы главных героев романа, в которой был найден манускрипт с родословной Гарагантюа: «Землекопы, которым он велел выгрести ил из канав, обнаружили, что заступы упираются в огромный бронзовый склеп длины невероятной, ибо конца его так и не нашли, – склеп уходил куда-то далеко за вьеннские шлюзы. В том самом месте, над которым изображен кубок, а вокруг кубка этрусскими буквами написано: Hic bibitur (Здесь пьют – лат.), склеп решили вскрыть и обнаружили девять фляг в таком порядке, в каком гасконцы расставляют кегли, а под средней флягой оказалась громадная, громоздкая, грязная, грузная, красивая, малюсенькая, заплесневелая книжица, пахнувшая сильнее, но, увы, не слаще роз» [Там же, с. 26].
На страницах «Порт-Тараскона» нет великанов, но неожиданных преувеличений там никак не меньше. В первую очередь А. Доде не отказывает себе в удовольствии показать некоторые страсти тарасконцев, разрастающиеся до необычайных размеров. Взять хотя бы пламенную любовь к бою быков. Характеризуя эту черту южан, автор поведал легенду об одном тарасконце, очень плохом христианине, случайно попавшем в рай и которого апостол Петр сумел выманить оттуда, попросив ангелов что есть мочи кричать: «Быки… быки… смотрите… быки!.. – Услышав этот крик, тарасконец изменился в лице. – Так у вас здесь устраиваются бои быков, святейший Петр? – Бои быков? Конечно, и великолепные, мой милый. – А где же, где же происходит этот бой? – Понятно перед раем. Ведь там просторнее. – Тарасконец сразу выскочил из рая, чтобы посмотреть, и небесные врата захлопнулись перед ним навеки» [Доде 1935, с. 253].
Не с меньшим сердечным пылом земляки А. Доде полагаются на чудодейственные лечебные свойства чесночного супа: «Ах! Как хорошо пахнет… – Один только запах приносил им облегчение. Они съедали одну тарелку, другую и после третьей вставали с постели здоровыми, с бодрым голосом, а вечером в салоне уже играли свою партию в винт. Не забудьте, что все они были тарасконцы» [Там же, с. 311]. Более продвинут в определении целебных свойств тех или иных блюд и снадобий главный фармацевт города господин Безюке; но и он склонен к гиперболизации в отношении вкусов коренного населения Порт-Тараскона: «Аптекарь полагал, что, живя среди лекарств, мяты, мышьяка, арники ипекакуаны, он так ими пропитался, что, вероятно, пришелся не по вкусу дикарям, или, наоборот, благодаря аптечному запаху они берегли его на десерт» [Там же, с. 288].
Явно проступающие черты чрезмерности в «общественном бессознательном» тарасконцев странным образом отражаются и на результатах их трудов на полях колонии: «Несколько доблестных колонистов – Эскарра, Дурлядур, Менфор, Рокетальяд – выходили иногда, несмотря на ливень, поднимать целину, распахивать свои гектары, ожесточенно принимаясь за различные плантации, производившие странные вещи: во влажной теплой почве, постоянно намокавшей, сельдерей становился в одну ночь гигантским и жестким деревом. Капуста тоже принимала феноменальные размеры, но вся уходила в ствол, длинный, как у пальмы…» [Там же, с. 310].
На страницах «Одесских рассказов» попытки преувеличений хотя иногда и сдерживаются здравым смыслом предпринимательской прослойки города, но порой все-таки доходят до широких обобщений европейского масштаба. Вот слова бакалейщика Каплуна, терпеливо объясняющего одному из предводителей одесских джентльменов удачи проблематичность союза дочери вора со своим наследником: «Зачем нам гореть? – ответил Каплун скороговоркой и погладил руку ломового извозчика, – не надо такие слова, мосье Грач, ведь вы же у нас человек, который может помочь другому человеку, и, между прочим, вы можете обидеть другого человека. А то, что вы не краковский раввин, так я тоже не стоял под венцом с племянницей Мозеса Монтефиоре…» [Бабель 2009, с. 32]. (К слову, фигура Монтефиоре, основателя первого в Англии общества по страхованию жизни и одного из двенадцати «еврейских маклеров» лондонского Сити, видимо, действительно не уступает по значимости должности раввина одного из крупнейших городов Польши).
В другом эпизоде суждения Бени Крика в горькие минуты утешения матери погибшего приказчика Мугинштейна, полагаем, тянут не меньше чем на речи с трибуны представительного форума ООН: «Тетя Песя, сказал тогда Беня всклоченной старушке, валявшейся на полу, если вам нужна моя жизнь, вы можете получить ее, но ошибаются все, даже Бог. Вышла громадная ошибка, тетя Песя. Но разве со стороны Бога не было ошибкой поселить евреев в России, чтобы они мучились, как в аду? И чем было бы плохо, если бы евреи жили в Швейцарии, где их окружали бы первоклассные озера, гористый воздух и сплошные французы?» [Там же, с. 25]. Но совсем уж безудержной фантазией звучат слова Арье-Лейба, пытающего приравнять свое повествование к изречениям Всевышнего: «И вот я буду говорить, как говорил Господь на горе Синайской из горящего куста. Кладите себе в уши мои слова. Все, что я видел, я видел своими глазами. Сидя здесь, на стене второго кладбища, рядом с шепелявым Мойсейкой и Шимшоном из погребальной конторы. Видел это я, Арье-Лейб, гордый еврей, живущий при покойниках» [Там же, с. 26].
В «Золотом теленке» гипербола постоянно соседствует с абсурдом. Начиная с бытовой ситуации: «Вы, я вижу фотограф, сказал Остап, уклоняясь от прямого ответа, – знал я одного провинциального фотографа, который даже консервы открывал только при красном свете, боялся, что иначе они испортятся» [Ильф, Петров 2009, с. 253]. Нелепости продолжаются в окружающей советского человека наглядной агитации и пропаганде: «Человеку с неотягченной совестью приятно в такое утро выйти из дому, помедлить минуту у ворот, вынуть из кармана коробочку спичек, на которой изображен самолет с кукишем вместо пропеллера и подписью „Ответ Керзону“, полюбоваться на свежую пачку папирос и закурить, спугнув кадильным дымом пчелу с золотыми позументами на брюшке» [Там же, с. 80]. Абсурд нарастает в столкновении мифологического странника-долгожителя с прайс-листом стальных магистралей: «Не буду напоминать вам длинной и скучной истории Вечного еврея. Скажу только, что около двух тысяч лет этот пошлый старик шатался по всему миру, не прописываясь в гостиницах и надоедая гражданам своими жалобами на высокие железнодорожные тарифы, из-за которых ему приходилось ходить пешком» [Там же, с. 260].
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов



