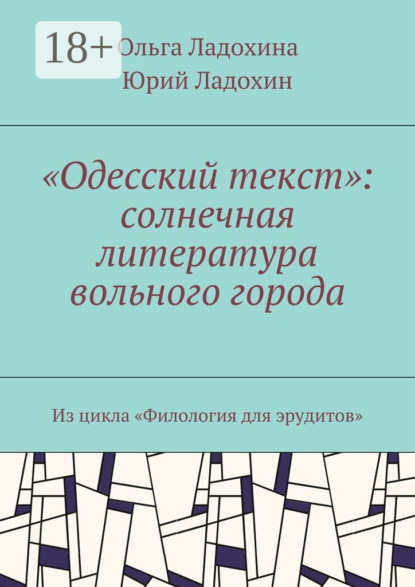
Полная версия:
«Одесский текст»: солнечная литература вольного города. Из цикла «Филология для эрудитов»
Развивая формулировку вышеназванных исследователей, Ю. Щеглов отмечает, что «мысль об „обмене цитатами“ между ДС/ЗТ и средой точна и в обратном направлении: среда, в свою очередь, позаимствовала из ДС/ЗТ десятки образов и фраз, давно ставших частью повседневного юмора. Вобрав в себя несметное количество чужих слов, дилогия Ильфа и Петрова стала одним из наиболее цитабельных произведений – лишь „Горе от ума“ и Козьма Прутков могут соперничать с ней по объему вошедшего в пословицу текста» [Щеглов 2009, с. 51].
Итак, представление дуэлянтов со стороны одесситов состоялось. Но представим себе на миг, каким результатом мог бы закончился этот выдуманный поединок петербуржских поэтов Серебряного века с писателями группы «Юго-Запад». Вспомним практику дуэльных поединков. Дж. Гамильтон в книге «Оружие и правила дуэлей» пишет, что в «„Королевском кодексе чести“ разработанном в Ирландии в начале XIX века, одно из правил гласит: „Джентльмены не должны располагаться на месте дуэли при ветре, пыли, дожде со снегом, снегопаде, ливне, граде или так, чтобы солнце светило кому-то в лицо“» [Гамильтон 2008, с. 195].
На наш взгляд, именно в этой фразе стоит поискать возможный прогноз исхода нашего поединка. Причем здесь погода? – спросите вы. Подождите… В коротеньком очерке Бабеля «Одесса», опубликованном в петроградском «Журнале журналов» (видите, уже теплее: одесский писатель в одном из изданий Северной Пальмиры) в шутливой фельетонной манере «превозносит родную Одессу за атмосферу ясности, солнечности и легкости, которой так не хватает унылым русским ландшафтам и русской литературе, за исключением раннего Гоголя. Потом Бабель выражает уверенность, что такой благодатный для русских широт край просто обязан дать писателя с новым для России пафосом – жизнелюбием» [Гандлевский 2014, с. 503].
Ну что, догадались? СОЛНЦЕ В ГЛАЗА! Петербургские поэты, как настоящие леди и джентльмены, никогда не будут выходить к барьеру, если солнце светит в глаза! Сочиненная дуэль не состоялась… Но тексты (петербургский, одесский или какой-то другой) продолжают соперничать между собой в изысканности стиля, спорят об истинности рассматриваемых философских концепций, борются за яркость, обаяние и достоверность главных героев.
И всех этих изысков и изумрудов не счесть, на наш взгляд, на страницах произведений «одесского текста». Наше исследование – о солнечной литературе вольного города.
Глава 1. «О город – смесь племен и наций!..» (писатели – предвестники «одесского текста»)
Итак, начнем с одесского юмора, тесно связанного с особенностями характера жителей колоритного города, с неповторимой ауры его улиц и площадей. По этому поводу в посвящении М. Жванецкого Леониду Утесову есть такие слова: «Да, что-то есть в этой нервной почве, рождающей музыкантов, шахматистов, художников, певцов, жуликов и бандитов, так ярко живущих по обе стороны среднего образования» [см. Хаит, 2011, с. 92]). Небывалая для неповоротливой России экономика «порто-франко» порождала предприимчивых, свободолюбивых людей с авантюрной жилкой. Южное солнце и море, цветущие каштаны и запах акаций смягчали нравы, создавали атмосферу особой теплоты уютных и тесных одесских двориков. Широкий спектр языков и наречий генерировал одесскую радугу парадоксальных суждений, житейских компромиссов и неповторимых интонаций.
Учитывая блистательный прогресс бывшего неприметного Хаджибея, В. Хаит даже сравнивает особенности Одессы с жизненным укладом крупнейшего города и порта Нового Света: «Почему неповторимая интонация? Да потому, что в Одессе с самого начала было намешано много наций, а значит – и наречий. Почему теплота и доброта? Да потому, что в таком котле без них просто не выжить! Огромный Нью-Йорк, в котором сто наций, держится на законах, на полиции – поэтому такой многонациональный котел не взрывается. В Одессе люди мирно сосуществуют в значительной степени благодаря юмору. Одесситы знают: переругаться легче всего, гораздо сложнее – найти разумный компромисс. И здесь юмор – первое средство» [Хаит 2011, с. 92]).
Веселый и легкий нрав одесситов особенно ярко проявился в начале ХХ века, в период бурного роста экономики России. Почти в каждом из многочисленных периодических изданий города присутствовал отдел юмора и сатиры. В эти же годы стал выходить одесский «Крокодил», который на 10 лет опередил одноименный московский. К числу «золотых перьев» этого обожаемого горожанами журнала можно причислить Ефима Зозулю, Эмиля Кроткого, Незнакомца (Борис Флит), Эскесса (Семен Кессельман) Тузини (Николай Топуз), Picador (Виктор Круковский). Посвящают любимому городу эмоциональные строки мастера одесской словесности Влас Дорошевич, Семен Юшкевич, Аркадий Аверченко, Дон Аминадо (А. Шполянский). Оптимистичная заряженность одесских текстов не в последнюю очередь определялась позитивным настроем их авторов. Вот что вспоминает о поразительных качествах одного из них С. Горный в статье «Памяти А. Т. Аверченко», опубликованной в 1930 году: «Аверченко ходил меж нас – солнечный увалень, с душой, словно вечно щурящейся от смеха… До самых последних – так нежданно, так жестоко наступивших последних дней, он был одинаково мягок и ровен со всеми. Что в нем было самым необыкновенным?.. Свежесть. В этом разгадка этого удивительного, хрустящего на зубах, как арбуз с хохлацкой бахчи, таланта».
Успех у публики и заслуженная репутация одесских мастеров слова во многом обеспечивались их умением непредвзято и иронично оценить характерные черты жителей своего наполненного жизнелюбием и артистизмом города. Это относится и к скоротечности амурных отношений: «Любовь одессита так же сложна, многообразна, полна страданиями, восторгами и разочарованиями, как и любовь северянина, но разница та, что пока северянин мямлит и топчется около одного своего чувства, одессит успеет перестрадать, перечувствовать около пятнадцати романов» [Аверченко 2010, с. 100]). И к умению предаваться утонченной меланхолии: «А то скучают еще и так. Одеваются с „художественным беспорядком“, идут к морю и, вперив взор в какую-нибудь точку на горизонте, говорят меланхолически: – Жизнь – глубока и таинственна, как море. Жизнь – это Сфинкс» [Зозуля 2010, с. 61]).
Не скрылись от острого взгляда литераторов и негаданные метаморфозы во взглядах на личную жизнь молодых одесситов, быстро наживших приличные состояния: «О женщинах он вообще никогда не думал. Некогда было! Но когда он „сделал“ сто тысяч, душа его взыграла. Словно из тумана стали выплывать женщины – то вдруг появилась розовая, свежая щечка с ямочкой, то вырисовывалась пышная женская рука, оголенная до плеча, там сверкала белизной декольтированная шея, и еще другие соблазнительные образы тревожили его воображение…» [Юшкевич 2010, с. 106] (из рассказа «Дудька забавляется»). Не обходят литераторы стороной и неисчерпаемую тему своеобразия городского диалекта: «В Одессе всегда смеются с кого-нибудь. Гр. фельетонисты здесь очень много смеются, например, „с городской управы“, но с городской управы это как с гуся вода» [Дорошевич 2010, с. 36]).
К превалирующим качествам одесситов, несомненно, можно отнести авантюрную жилку и предприимчивость. В одном случае побудительным мотивом искателей приключений может послужить быстрое извлечение прибыли, как у незадачливых братьев Абрама и Якова Гидалевичей из рассказа А. Аверченко «Одесское дело»: «Солгал и Яков. Ему тоже никто не поручал продавать дом. Но сказанные им слова уже имели под собой некоторую почву. Он не бросил их на ветер так, за здорово живешь. Он рассуждал таким образом: если у Абрама есть покупатель на дом, то это, прежде всего, такой хлеб, которым нужно и следует заручиться. Можно сначала удержать около себя Абрама с его покупателем, а потом уже подыскать продажный дом» [Аверченко 2010, с. 96]). В другом – стремление покорить сердце таинственной незнакомки: «Она вошла, грациозно заняла место за столиком. Дудька почувствовал густой удар своего сердца. „Тра-та-та“ – запели трубы… Дудька вспомнил, что у него в кармане лежат двадцать тысяч для покупки кофе и керосина, и расхрабрился» [Юшкевич 2010, с. 106]).
Иногда свежие бизнес-идеи приходят в голову и самим литераторам: «Одесситы говорят скорее на „китайско-японском языке“. Тут чего хочешь, того и спросишь. И мы удивляемся, как ни один предприимчивый издатель не выпустил до сих пор в свет „самоучителя одесского языка“ на пользу приезжим» [Дорошевич 2010, с. 35]. Впрочем, будущий успешный главред популярнейшей в России газеты «Русское слово» Влас Дорошевич знал, о чем писал. В 1886 году в Одессе уже выходила книга на эту тему. Правда, до самоучителя ему было далеко. Само название уже говорило о назидательной позиции автора (В. Долопчева) – «Опытъ словаря неправильностей въ русской разговорной речи (преимущественно въ Южной Росiи)». В словаре, как отмечает В. Котов, «есть указания на свойственные одесситам грамматические ошибки: абы – вместо лишь бы… и т. п. Кстати, В. Долопчев советует горожанам говорить „негретенок“ вместо „негритенок“, но в языке прижилось второе слово, „неправильное“» [Котов 2005, с. 33].
Игры в «майского короля», перевертыши «богач-бедняк», «король-шут» характерны для обрисовки персонажей произведений одесских авторов. В рассказе А. Аверченко «Бандитовка» главная героиня – хорошенькая певица чувствовала себя поистине королевой, когда город заняли большевики: «Приезжаю… На столе столько наставлено, что глаза разбегаются! Преподносят мне, представьте, преогромный букет роз и мимозы… – Неужели от большевиков букеты принимали? – с упреком заметил я. – А что поделаешь? Револьвер к виску – и суют в руку» [Аверченко 2010, с. 103]. Но когда собеседник напоминает ей о зубровке, принесенной из подвала, где были расстреляны белые офицеры, королевская корона сползает, обнажая шутовской колпак: «Скажите, а они не могли подсунить вам вместо „бандитовки“ „офицеровку“? – И я видел, как что-то, будто кипяток, ошпарило ее птичий мозг. Она заморгала глазами быстро-быстро и, отмахиваясь от чего-то невидимого, жалобно прочирикала: – Но они же револьвер к виску… Танцуешь у них – и револьвер у виска, пьешь – и револьвер у виска… Не смотрите на меня так!» [Там же, с. 104].
В рассказе Ефима Зозули шутовское обличие сразу проступает сквозь мнимые королевские наряды: «Людям не надоедает и вряд ли когда-нибудь надоест: беря взаймы, искренне уверять: «Ей-богу, до среды»… Не имея башмаков, развивать теории прогресса. А не имея ума – читать публичные лекции… Ничего не смысля в картине, бормотать с достоинством: «М-м.. да… экспрессия, воздух…”. Не давать подачки нищему и заявлять гордо: «Не даю прин-ци-пи-аль-но!». Не иметь сердца и пламенно обличать бессердечие» [Зозуля 2010, с. 59]. По мнению язвительного Дона Аминадо, на котелках и шляпах добропорядочных горожан надо нашивать шутовские бубенцы только из-за их тяги к развлекательным зрелищам в кабаре: «Но, леди и джентльмены… Для кабаре необходим, и это совершенно неоспоримо – подвал. Вы спросите, почему непременно подвал, а не партер или бельэтаж? Очень просто. Когда люди опускаются до того, что идут в кабаре, надо дать им возможность опуститься как можно ниже. Ибо, как сказал Ницше: «Падающего подтолкни…«» [Дон Аминадо 2010, с. 52 – 53].
Не менее важна для одесских авторов и яркая театральность образов. Всего лишь несколько размашистых мазков С. Юшкевича – и стиль франтоватого богача Дудьки как на ладони: «Он пил в этот полдень кофе у Лейбаха. В его скромном, но дорогом галстухе утренней росинкой блестел каратный бриллиант. У сердца тикал „Патек“. Золотая изящная цепочка покоилась на жилетке. Бом, бим, сулу, тики, мум!» [Юшкевич 2010, с. 106]. Дон Аминадо ищет истоки театрального конферанса в известном ветхозаветном сюжете: «Итак: конферансье… В своем роде – комиссионер искусства!.. Искусства обольщать, обещать и соблазнять. В этом смысле первым конферансье в мире был, если хотите, змей с его гениальной инсценировкой грехопадения Евы. Кстати сказать, вся постановка этой одноактной миниатюры стоила ему гроши. Гардероб сводился к паре фиговых листков, а для реквизита понадобилось одно самое обыкновенное свежее яблоко» [Дон Аминадо 2010, с. 53].
Эмиль Кроткий вообще отваживается на весьма смелое обобщение, сравнивая Одессу с соблазнительной, но непостоянной красоткой в венке из цветков акации: «О город – смесь племен и наций! // Ты, здравой логике в ущерб, // Цветы прославленных акций // Забыл вплести в свой юный герб. // Вот символ города-кокетки – // Душистый цвет, покрывший ветки // Подобьем легкого снежка, // При первом ветре пасть готовый, // Слегка хмельной, слегка дешевый // И… надоедливый слегка!..» [Кроткий 2010, с. 64]. Готовы согласиться с поэтом: обаяние Одессы настолько велико, что искренняя любовь к этому солнечному городу не проходит и после того, как облетают цветы белоснежных акаций!
Глава 2. Особенности карнавальной традиции одесской литературы
Следующий этап нашего исследования – карнавальные традиции одесской словесности. В «Одесских рассказах» И. Бабеля можно проследить, как в литературный текст переносится ведущее действо карнавала – обряд увенчания-развенчания, содержащий в себе, как отмечал Михаил Бахтин, «само ядро карнавального мироощущения – пафос смен и перемен, смерти и обновления» [Бахтин 1963, с. 210]. Это и массовое кровавое зрелище передачи биндюжного хозяйства от папаши Крика к его сыновьям: «Молдаванка шла толпами, как будто во дворе у Криков были перекидки. Жители шли, как идут на Ярмарочную площадь во второй день Пасхи» [Бабель 2009, с. 52]. Это и пышная свадьба Двойры Крик, сестры Короля воров Бени Крика: «Оркестр играл туш. Это было как дивизионный смотр… Налетчики, сидевшие сомкнутыми рядами, вначале смущались присутствием посторонних, но потом они разошлись…» [Там же, с. 17]). Не менее зрелищно смотрятся и похороны коменданта гарнизона Герши Лугового на втором еврейском кладбище: «Его хоронили с почестями. Войска прибыли на кладбище с оркестрами, походными кухнями и пулеметами на тачанках. У раскрытой могилы были произнесены речи и даны клятвы» [Там же, с. 64]).
В «Золотом теленке» И. Ильфа и Е. Петрова массовые действа носят все признаки одновременного расцвета предпринимательства и бюрократизма в период НЭПа. Вот описание бурного подъема одесской киноиндустрии: «На 1-й Черноморской кинофабрике был тот ералаш, какой бывает только на конских ярмарках и именно в ту минуту, когда всем обществом ловят карманника» [Ильф, Петров 2009, с. 225]. А это краткая характеристика небывалого для тогдашней мировой пропагандистской практики явления: «Видите, Шура, что здесь написано?.. «Смерть бюрократизму!”… Это был прекрасный агитационный гроб, который по большим праздникам геркулесовцы вытаскивали на улицу и с песнями носили по всему городу» [Там же, C.183]. Другая разновидность тогдашнего пиара встретилась пассажирам «Антилопы Гну» на пути трассы автопробега: «Деревня встретила головную машину приветливо… Вдоль улицы стояли школьники с разнокалиберными старомодными плакатами: «Привет Лиге Времени и ее основателю, дорогому товарищу Керженцеву», «Не боимся буржуазного звона, ответим на ультиматум Керзона», «Чтоб дети наши не угасли, пожалуйста, организуйте ясли»» [Там же, с.60].
Ключевая составляющая карнавала – маски, костюмы его участников, а также сопутствующие декорации и атрибуты. И для обрисовки персонажей и антуража празднества вовсе не нужны развернутые описания, достаточно лаконичных мазков. Писатели здесь руководствуются, скорее всего, известным высказыванием Антона Чехова: «для того, чтобы подчеркнуть бедность просительницы, не нужно тратить много слов, не нужно говорить о ее жалком, несчастном виде, а следует только вскользь сказать, что она была в рыжей тальме» (см.«Чехов в воспоминаниях современников», 1947 год).
Вот как И. Бабель рисует аляповатый декор упомянутой уже свадьбы сестры главы воровского клана: «Перекрытые бархатом столы вились по двору, как змеи, которым на брюхо наложили заплаты всех цветов, и они пели густыми голосами – заплаты из оранжевого и красного бархата» [Бабель 2009, C. 13]). По колориту и лапидарности этой сцене не уступает и описание одесского вещевого рынка: «Фроим встал и вышел на улицу. Он пересек Прохоровскую, чадившую в небо нищим тающим дымом своих кухонь, и площадь Толкучего рынка, где люди, завернутые в занавеси и гардины, продавали их друг другу» [Там же, с. 61].
Нашлись в мольберте писателя краски и для портретов ближайших родственников мальчика – персонажа одного из рассказов. К примеру, заботливой тетки: «В воскресенье утром Бобка вырядилась в коричневое суконное платье. Толстая ее, добрая грудь лежала во все стороны. Она надела косынку с черными тиснеными цветами, косынку, которую надевают в синагогу на Судный день и на Рош-Гашоно» [Там же, с. 107]. Или сумасшедшего деда: «Мой бедный дед гримасничал своим синим окостеневшим ртом. На нем был загнутый цилиндр, черная ваточная хламида с костяными пуговицами и опорки на слоновых ногах» [Там же, C. 111]. Сравним, как далеки от этих опорок увиденные глазами того же мальчика аксессуары приглашенных на дачу директора банка дам: «Искры заката входили в бриллианты – бриллианты, навешанные повсюду: в углублениях разъехавшихся грудей, в подкрашенных ушах и на голубоватых припухлых самочьих пальцах» [Там же, с. 106].
Не менее красноречиво обрисован гардероб одного из главных персонажей «Золотого теленка» – подпольного миллионера Корейко, причем усилия героя книги по овладению искусством мимикрии описаны в развитии: от юности до встречи с Остапом Бендером. В начале: «Он вышел из тюрьмы через пять месяцев. От мысли своей сделаться богачом он не отказался, но понял, что дело это требует скрытности, темноты и постепенности. Нужно было надеть на себя защитную шкуру, и она пришла к Александру Ивановичу в виде высоких оранжевых сапог, бездонных синих бриджей и долгополого френча работника по снабжению продовольствием» [Ильф, Петров 2009, с. 46]. Дальше – вид поосанистей: «Оранжевые сапоги вынырнули в Москве в конце 1922 года. Над сапогами царила зеленоватая бекеша на золотом лисьем меху. Поднятый барашковый воротник, похожий с изнанки на стеганое одеяло, защищал от мороза молодецкую харю с севастопольскими полубаками» [Там же, с. 47]. Ну, а это – незадолго до рандеву с великим комбинатором в Черноморске: «Человек без шляпы, в серых парусиновых брюках, кожаных сандалиях, надетых по-монашески на босу ногу, и белой сорочке без воротничка, пригнув голову, вышел из низенькой калитки дома номер шестнадцать» [Там же, с. 38].
Не то с костюмами Остапа: тут предельная функциональность (от хлебной роли сына лейтенанта Шмидта до без пяти минут жителя феерического Рио-де-Жанейро). Это – перед встречей с предисполкома: «Гражданин в фуражке с белым верхом, какую по большей части носят администраторы летних садов и конферансье, несомненно, принадлежал к большей и лучшей части человечества. Он двигался по улицам города Арбатова пешком, со снисходительным любопытством озираясь по сторонам» [Там же, с. 6]. Здесь – перед решающей схваткой за миллион: «Рано утром Бендер раскрыл свой акушерский саквояж, вынул оттуда милицейскую фуражку с гербом города Киева и, засунув ее в карман, отправился к Александру Ивановичу Корейко» [Там же, с. 137]. А это – уже как обладатель долгожданного чемодана с дензнаками: «Последним с перрона вошел пассажир в чистой одежде. Под расстегнутым легким макинтошем виднелся костюм в мельчайшую калейдоскопическую клетку. Брюки спускались водопадом на лаковые туфли» [Там же, с. 293].
Не забыли авторы и о музыкальном обрамлении захватывающего театрального действа по добыче вожделенной суммы с шестью нулями: «Над городом явственно послышался канифольный скрип колеса Фортуны. Это был тонкий музыкальный звук, который перешел вдруг в легкий скрипичный унисон… И хватающая за сердце, давно позабытая мелодия заставила звучать все предметы, находящиеся в Черноморском отделении Арбатовской конторы по заготовке рогов и копыт» [Там же, с. 197].
Казалось бы, что нам сейчас, поневоле отслеживающих колебания курсов доллара и евро, а также динамику цен барреля Urals, до артистичных махинаций великого комбинатора времен НЭПа. Но… карнавал продолжается, «господа присяжные заседатели»!
Глава 3. Беня и Остап – майские короли «одесского текста»
Игры в майского короля в «Одесских рассказах» И. Бабеля и «Золотом теленке» И. Ильфа и Е. Петрова отнюдь не следуют традиционным правилам английского действа. Перевертыши «богач-бедняк», «король-шут» не привязаны здесь к буйству карнавала в период наступательного пробуждения природы. Мощное энергетическое поле вольного портового города действует во все времена года, поэтому персонажи совершают кульбиты вверх-вниз с завидным постоянством, двигаясь зигзагами от побед к поражениям, и наоборот.
Подлинными майскими королями выступают здесь самые знаменитые герои «одесского текста»: Беня Крик и Остап Бендер. Рассказ И. Бабеля «Как это делалось в Одессе» так и начинается, с емкой фразы о триумфе и падении короля одесских воров: «Погорим о Бене Крике. Поговорим о молниеносном его начале и ужасном конце» [Бабель 2009, с. 19]. Автор задает вопрос: «почему же один Беня Крик взошел на вершину веревочной лестницы, а все остальные повисли внизу, на шатких ступенях?» [Там же, с. 19] (чувствуете колорит приморского города? – не каменные ступени к славе, а веревочная лестница стремительного парусного судна).
Ответ – на страницах рассказов: характер Короля куется в калейдоскопе триумфов и падений. Вот – безоговорочная победа над владельцем шестидесяти без одной дойных коров Сендера Эйхбаума и рядом – внезапное поражение, но особое – с сильнейшим ударом в самое сердце. Об успехе: «Девять пылающих звезд зажглись на скотном дворе Эйхбаума. Беня отбил замки у сарая и стал выводить коров по одной» [Там же, с. 15]. И о неудаче: «Во время налета, в ту грозную ночь… во двор выбежала в вырезной рубашке дочь старика Эйхбаума – Циля. И победа Короля стала его поражением… Через два дня Беня без предупреждения вернул Эйхбауму все забранные у него деньги и после этого явился вечером с визитом» [Там же, с. 15].
А вот обернувшийся внезапным казусом сулящий большие выгоды налёт на торговый кооператив «Справедливость», когда шайку Бени опередил Коля Шрифт со своими помощниками: «Еще немного и произошло бы несчастье, Беня сбил Шрифта с ног и выхватил у него револьвер. С антресолей начали падать люди, как дождь… В первый раз в жизни короля приняли за пристава. Это было достойно смеха. Налетчики хохотали во все горло… Один король не смеялся» [Там же, с. 46]. А это – кровавая, но победа Бени в драке с собственным отцом, Менделем, изо рта которого, залепленного грязью и волосами, звучат в итоге долгожданные для будущего Короля слова: «Меня сыны убили. Пусть сыны хозяйствуют» [Там же, с. 54]. Но триумф нового владельца доходного биндюжного бизнеса вскоре оборачивается стыдом, когда жена старика Менделя стала визжать и царапать лица сыновьям-победителям: «Все соседи были разбужены ее ревом… Молдаванка стекалась на скандал. И Беня Крик, на глазах у людей поседевший от позора, едва загнал своих новобрачных в квартиру» [Там же, с. 57].
Приз, которого добивается главный герой «Золотого теленка», повесомее, чем двадцать жеребцов биндюжника Менделя. На пути к заветному «блюдечку с голубой каемочкой» Остапа Бендера ждут не менее головокружительные взлеты и падения. Когда после грабежа на пляже Черноморска (читай – Одесса) выяснилось, что у скромного служащего Корейко с сорокарублевым жалованьем в кармане оказалось десять тысяч рублей, великий комбинатор понял, что час победы близок. «Первое свидание с миллионером-конторщиком возбуждало его. Войдя в дом №16 по Малой Касательной улице, он напялил на себя официальную фуражку, и, сдвинув брови, постучал в дверь» [Ильф, Петров 2009, с. 137]. Казалось, зыбкие еще вчера мечты Остапа о Рио-де-Жанейро приобретают отчетливую форму. Но, получив твердый ответ Корейко, что его никто не грабил, «великий комбинатор допустил неприличную суетливость, о чем всегда вспоминал впоследствии со стыдом. Он настаивал, сердился, совал деньги в руки Александру Ивановичу и, вообще, как говорят китайцы, потерял лицо» [Там же, с. 139].
Для второй встречи с подпольным миллионером Остап подготовил, как сказали бы сейчас, «бронебойный аргумент» – папку с описанием некоторых фактов бурной деятельности теневого предпринимателя. Удача, верилось, сама шла в руки великого комбинатора: «У него было изнуренное лицо карточного игрока, который всю ночь проигрывал и только на рассвете поймал, наконец, талию» [Там же, с.195]. Но скромный конторщик опять перехитрил многоопытного «сына лейтенанта Шмидта». На руку бухгалтеру сыграли учения химзащиты и захваченный из дома пакет с противогазом: «Корейко не было. Вместо него на великого комбинатора смотрела потрясающая харя со стеклянными водолазными очами и резиновым хоботом, в конце которого болтался жестяной цилиндр цвета хаки. Остап так удивился, что даже подпрыгнул» [Там же, с. 214].



