 Полная версия
Полная версияТо, что помню
Ну, с концом проектирования это все закончилось, и наступили общие муки – дом начали строить. Откуда заказчик взял строительную организацию, которая начала строить дом в Погорельском, я не знаю. Однако наш авторский надзор, конструктор Ж., чуть ли не каждый день прибегал со стройки в шоковом состоянии. «Что они делают?! – кричал он. – Ничего общего с проектом! Арматура не того диаметра, размеры стен не по чертежам, бетон льют как бог на душу положит! Я им говорю, я им пишу в книгу, а они – ноль внимания!».
В то время, как и теперь, на стройках были большие амбарные книги, официально это называется «Журнал авторского надзора». Если вы – проектировщик, и вы приезжаете на стройку и видите, что что-то делается не по проекту и надо срочно изменить, вы немедленно записываете в книгу свои замечания, с подписью и датой, конечно. Для того, чтобы замечания не терялись и чтобы никто не выдергивал листов с ними, все страницы книги нумеруются, а сама книга хранится в прорабской и никуда не выносится со стройки. И, что главное, замечания эти должны выполняться строителями, обязательно. Но деятели с Погорельского работали по принципу «А Васька слушает, да ест». И когда уже был построен подвал с гаражом и три этажа выше земли, в одну замечательную ночь, все три этажа с грохотом обвалились на перекрытие гаража (оно, как ни странно, выдержало). К счастью, никого из рабочих на стройке в тот момент не было, и никто не пострадал.
Зато начался скандал! Заказчик винит всех подряд, и проектировщиков в первую очередь. Привлекли милицию, завели дело. Наш авторский надзор Ж., а с ним и еще пара конструкторов, помчались на стройку, а там никого. Вообще никого из строителей, даже сторожа нет. Вскрыли с милицией прорабскую, чтобы найти книгу авторского надзора и в ней все записи о нарушениях, а книги нет, вообще нет. Не то чтобы вырвали страницы или оторвали кусок – уничтожили полностью, когда только успели! Теперь даже не докажешь, что проектировщики строителей предупреждали и замечания писали! Наши звонят в строительную организацию – молчание, едут в их контору – дверь заперта и ни души. Милиция вскрыла дверь, начали искать документы организации и адреса ответственных начальников этой шарашки – разумеется, никого и ничего! Всё исчезло в одночасье, как будто и не было никогда организации с солидными средствами и штатом сотрудников.
Месяца полтора все было тихо – шло безуспешное следствие, а заказчик искал других строителей. И нашел. Как и у многих организаций в то время, у новых строителей была «крыша», которая не только получала с них доход, но и контролировала работу на месте. Ходить на стройку стало страшновато – по ней бродили специфического вида молодые люди, держащие руки на карманах с оружием и наблюдающие за строителями, однако новые строители и завалы разобрали, и надземные стены построили заново – уже не до третьего этажа, а до конца. Больше ничего не падало, и никто не исчезал. Впрочем, как выяснилось, лестничную клетку они все равно построили по всей высоте на полметра длиннее, чем по проекту (как этого можно было добиться, я до сих пор не понимаю), но на фоне всего, что происходило прежде, это было уже не страшно.
15. Свято место
Я совсем не собиралась заходить в Даниловский монастырь, святые места не часто меня привлекают. Но когда по другим делам я как-то доехала до Тульской, меня осенило: а ведь прошло уже тридцать лет! И сразу стало ясно – надо зайти обязательно.
Начиналось все в восемьдесят шестом году. И началось как обычно – пришел начальник отдела, бросил на стол архитектурные чертежи и сказал:
– Смотрите архитектуру и думайте, как делать будете, мы такого еще не делали, это Даниловский монастырь.
Да, монастырей мы действительно тогда еще не делали. Да и делать надо было не сам монастырь, который стоит с тринадцатого века, а новое здание в нем. Монастырь и тогда выглядел так же, как и теперь, и как все последние восемьсот лет.

Но вот с новой постройкой мы зашли в тупик, особенно в той ее части, где помещалась маленькая домовая церковь. На всякий тип здания в то время существовали (да и теперь существуют) нормы, это закон проектирования. Кто нарушает нормы, тот отвечает за свои действия вплоть до суда, если в здании что-то пойдет не так. Но вот относительно церквей ничего такого не издавалось. Это теперь смена идеологии сказалась и на проектных нормах, СНиП выпустили, и кажется, не один, а тогда не было ни норм, ни книг – все церкви были существующие, новых не строили. Как в них делать вентиляцию – никто не знал.
Главный инженер говорит:
– Послушайте, но ведь если церковь отделена от государства, может быть, и СНиП на них не распространяется? Может, и не будем соблюдать?
– Нет, нельзя не соблюдать, – отвечает начальник отдела. – Они-то, может, и отделены от государства, зато мы – нет. Будем соблюдать, насколько можем, а за основу возьмем существующие небольшие церкви. Кто-нибудь сходит и посмотрит в нескольких местах, как там сделано. И я сам схожу, если надо.
Этим кем-нибудь оказалась как раз я. Но где смотреть и какую церковь выбрать? Я проконсультировалась с самым надежным источником – пожилой соседкой Марией Григорьевной. Она была женщина очень набожная, при этом фронтовая медсестра, к тому же, как она сама рассказывала, делала частным образом уколы самому тогдашнему патриарху (подполковнику-фронтовику, между прочим). Вот она и посоветовала сходить в Болгарское подворье на Таганке, а потом еще в одну маленькую церковь, стоящую ближе к Яузе.
Начальник, когда узнал про Болгарское подворье, обрадовался, он жил рядом. Договорились мы вечером в пятницу, что пойдем к восьми часам на утреннюю службу в понедельник.
Прихожу в понедельник к церкви – начальника нет, служба идет. Внутрь идти стесняюсь – одно дело прийти с туристической группой на пять минут (все туристы грешники, все всё делают неправильно), а другое – заявиться под свою ответственность и рискнуть навлечь своими ошибками на себя гнев всех заинтересованных сторон. Где же начальник? Сотовых телефонов в то время еще не изобрели, я нашла на улице автомат, звоню начальнику. Мне отвечают: на работу ушел. Я спрашиваю:
– А на работу он в «Моспроект» ушел или в церковь?
На том конце трубки очень удивились и ответили, что в «Моспроект». Все стало ясно, идти придется одной. Ну, я вздохнула и отправилась внутрь. К счастью, в церкви в тот момент уже отпевали какую-то старушку, поэтому все были заняты отпеванием, на меня никто не обращал внимания, и я все внимательно осмотрела. Кстати, там даже без механической вентиляции было не душно и вполне хорошо, только за счет естественной тяги и своеобразной конструкции здания. Под конец я так набралась храбрости, что решила поговорить со священником, но обнаружились еще одни похороны, и я уже не стала ждать.
Во второй церкви было гораздо хуже – душно, сыро, да еще ремонт шел. Там я и задерживаться не стала, пошла на работу, записала все впечатления в тетрадь (она до сих пор у меня – тетрадь со всякими полезными сведениями по работе, тридцать с лишним лет живет), ну и приняла извинения начальника, который вспомнил о нашей договоренности только когда из дома ему позвонили и сказали, что я его ищу в церкви.
За следующий год я спроектировала вентиляцию для церкви, как могла, по нормам и по собственному разумению, потом вышла замуж, а потом меня начали отправлять на авторский надзор. Чуть не каждую неделю ездила в монастырь и смотрела, как растет здание и вентиляция в нем. Говорили, что в самом конце строительства на стене церкви повесили памятную доску, что проектировали сие здание архитекторы такие-то и конструктор такой-то. Про вентиляцию и водпровод не написали ничего, но это меня не огорчало – к тому времени я ушла в декрет, и жизнь стала еще интереснее. Только лет десять спустя я увидела, как все получилось, и только теперь смогла сфотографировать. А получилось очень торжественно.

16. Мы строим храм
В старинной притче один строитель, толкающий тачку, на вопрос " что ты делаешь?" отвечает – "везу песок", а другой такой же говорит: "строю храм". Мораль сей притчи проста: относись осознанно к тому, что делаешь. Но когда ты работаешь, не всегда думаешь о высоком и о храме, чаще – о тачке с песком. Я точно это знаю, ведь я тоже строила храм.
Храм Христа Спасителя вошел в нашу проектную жизнь постепенно. Сначала казалось – работа как работа, начертили, сдали, забыли. Однако со временем стало ясно – так просто мы от этого не отделаемся. Времена были перестроечные, денег мало, дисциплины в строительных организациях – еще меньше, спешка везде и всюду, а ведь на строительстве храма с самого котлована начались трудности – плывуны, плохой грунт. Наш конструктор Михаил Николаевич тем летом, когда копали котлован и заливали фундамент, так и жил на стройке в палатке, чтобы если что, быть рядом.
Потом, когда фундамент встал, года два все шло спокойно. Ну, нас, конечно, вызывали на стройку, когда что-то шло не так. Мне, помнится, даже в недостроенный алтарь пришлось заходить. Вообще-то, женщине это запрещено, но только после освящения. Пока алтарь не освящен, он вроде как и не алтарь.
Потом как-то, уже когда художники расписали Верхний Храм (тот основной объем, в котором сейчас все воскресные службы идут) наш прораб предложил нам с моей приятельницей, которая тоже там работала, подняться на верхнюю галерею и посмотреть роспись вблизи. Я легкомысленно согласилась, но когда мы отправились туда, сразу пожалела. Подниматься на высоту четвертого этажа пришлось не по лестнице, а по металлическим скобам в бетоне, а эти скобы помещались в вертикальном круглом тоннеле внутри колонны. Первым карабкался прораб, потом моя спутница, а я была последней. Я все время боялась, что у меня сорвется нога и я упаду, но еще больше боялась, что на меня упадет моя приятельница, а веса в ней было сто двадцать килограмм. В общем, едва доползли, но впечатление было потрясающее – господь бог смортел сверху вниз совсем рядом, до серафимов, кажется, можно было дотянуться руками, солнце из окошек, свобода, простор – хоть лети!

Теперь, когда мне случается зайти в Храм Христа Спасителя, я обязательно смотрю на роспись на потолке и вспоминаю это ощущение. Обратно мы спускались так же, по тоннелю, но теперь я была сверху, и страха не было вообще.
Еще через год храм надо было сдавать окончательно. Часть уже была открыта, и это была небольшая часть, но туда уже даже привозили реликвии – в частности, мощи святого Пантелеймона, покровителя врачей. Мы с приятельницей там только и работали – то одно согласовать строителям, то другое проверить. Последним сдавался зал церковных соборов, для которого я делала вентиляцию (обыкновенным языком говоря, большой конференц-зал, сейчас в нем идут концерты и утренники для детей). В спешке строительное начальство требовало подписать акт о сдаче таких вещей, которых еще и не существовало в природе. Однажды я приехала с больным зубом, с очередным воспалением надкостницы, и в очередной раз отказалась подписать несуществующее. Прораб Саша принес мне анальгин, а кто-то из наладчиков посоветовал подойти к мощам святого Пантелеймона, он же лечит. Мне было так больно, что я, несмотря на все свое неверие, на все была готова. Но посмотрев на грандиозную очередь больных, выстроившуюся к мощам, я позвонила по телефону в поликлинику и записалась к врачу. В этот же день зуб у меня почти перестал болеть. Я удивилась – неужели Пантелеймон помог, хотя я ближе пятидесяти метров от него не бывала? Но все объяснилось проще – воспаление перешло в новую стадию: болеть стало мало, зато щеку раздуло до безобразия. И не надеясь на помощь высших сил, я отправилась к врачу, где с зубом все благополучно закончилось.
А с храмом закончилось (хотя бы частично) к яблочному Спасу. И зал получился хорош. Очень интересный у него потолок – конструкцию эту проектировала какая-то организация из Челябинска. Там все конструкции очень мощные, потому что пролеты большие, а сверху не здание, а открытое место, где и машины могут проехать. Чтобы эти несущие конструкции прикрыть, сделали так называемые "платки" – бетонные конструкции, напоминающие паруса выпуклостью вниз, в зал. Сначала я видела их серыми, они висели низко над залом, и казалось, что вот-вот его раздавят. Но когда их расписали, получился такой оптический эффект, будто они выгнуты вверх, и потолок уходит в высоту. Хотя на самом деле они всё так же обращены выпуклостью вниз.


Спустя еще год мы с сыном сходили туда на благотворительный концерт (знакомые из эксплуатации предложили билеты). Сели на самом сомнительном с точки зрения вентиляции месте и стали ждать – когда там станет душно. Но душно не было, вентиляция получилась удачно. Этой зимой я повела на концерт в этот зал мужа, мы сидели на хороших местах, и сделали вот эти снимки, но эффект был все тот же, и вентиляция работала от души. Возможно, потому, что даже если не думать о возвышенном, а просто честно работать, все в конечном счете получается.
17. Парк Победы
Для меня он начался со стандартного подрамника метр на метр, висевшего в коридоре этажом выше рядом с дверью комнаты архитекторов.
– Сходите посмотрите, – сказала моя начальница. – Это Парк Победы, скоро мы будем его делать.
На подрамнике был фасад – почти такой, как его видно от метро на Поклонной горе. Здание с куполом на заднем плане – музей, низкая вытянутая дуга на бесчисленных ногах-опорах ближе к зрителю – картинная галерея, впереди – огромная стрела-обелиск, прямо в небо, а у ее подножия – фигура солдата – памятник Победе.

Подрамник появился поздней осенью, месяцем позже архитекторы дали нам планировки, и мы спокойно проработали зиму, весну и лето восемьдесят шестого года. Мне досталась в работу картинная галерея. А осенью восемьдесят шестого года был объявлен конкурс на лучший памятник. Точнее, для специалистов – архитекторов и скульпторов – конкурс был объявлен заранее, чтобы они успели подготовить модели памятника, а осенью должны были выбрать лучший из них. Насколько я помню, было профессиональное жюри, в которое входили скульпторы, представители ГлавАПУ и кто-то от московской и союзной власти. Но параллельно выбрать лучший памятник предлагалось и жителям Москвы.
В Манеже была устроена выставка проектов памятников, авторы и организации, представлявшие проект, были анонимны и имели только номер. При выходе всем посетителям и всем посетителям предлагалось проголосовать на специальном бланке за понравившийся проект.
Мы с мужем и его сестрой тоже туда сходили и проголосовали.
Проекты были самые разные. Была печальная женская фигура – скорбящая о погибших мать, было подобие Родины-Матери в Волгограде, были фигуры солдат – с оружием, с радостными лицами или печальных, склонивших голову перед памятью друзей. Предполагались фигуры ростом в десятиэтажный дом или скульптуры поменьше, но стоящие у подножия высокого обелиска, но в целом направление было одно: на фоне низкого здания – высокий памятник. Это никому не навязывалось, но изначально определялось вытянутой по горизонтали формой самого здания музея и галереи. Те варианты, в которых фигура была ниже здания или такой же высоты, выглядели неубедительно.
Моспроектовский вариант тоже был там, не помню в союзе с каким скульптором, но фигура солдата с поднятым над головой автоматом у основания обелиска выглядела одной из лучших. За этот вариант я и проголосовала, не только потому, что это был моспроектовский проект, но и потому что он лучше всего соответствовал виду здания в целом. Правда, потом в газете я прочла, что по итогам "народного голосования" и обсуждения в жюри был выбран другой проект, похожий на него и тоже мне понравившийся. Насколько повлияли наши голоса на окончательный выбор, я не знаю. Как показало время, даже мнение профессионального жюри ни на что не повлияло.
Ну а потом наступила вторая зима, и я обсчитывала и чертила картинную галерею, она была огромная, и помогала мне только одна сотрудница, моя подруга. Расчеты были все полностью на мне – и кондиционирование, и отопление. В них много было всего интересного и необычного, но интересно это главным образом с точки зрения моей специальности. Из курьезов помню только то, что в поисках одной формулы я добралась даже до английских и американских справочников, которые дал мне наш главный сантехник, а ему их присылали из США. Самое противное было переводить количество тепла из "британских тепловых единиц" (потому что коэффициенты в формуле были даны именно в этой размерности) в килокалории и киловатты. Но и это было сделано.
А потом я сдала этот проект и ушла в декрет, и вернулась к картинной галерее уже в начале девяностых годов, прямо на стройку.
В первый раз, когда я туда приехала (на электричке с Киевского вокзала, потому что метро "Парк победы" было тогда приятной, но очень далекой мечтой), было немного даже жутковато. Простор, ветер и огромное серое здание вдали. Ступени еще не были построены, кругом развезенная грузовиками желто-рыжая грязь.
Постепенно здание обрастало красивой облицовкой, окнами, стеклянным куполом и скульптурами. И вот тут все стало особенно занимательно, потому что памятник Победе был не тем, за который проголосовала я, и не тем, который выбрало жюри и большинство граждан, а тем, который построил Зураб Церетели. Уж как там он действовал, какими усилиями добился этого престижнейшего заказа, представить себе не могу, но факт остался фактом – вместо солдата в плаще и с поднятым над головой автоматом под обелиском утвердился Святой Георгий на коне. А на стройном обелиске, как ворона на шесте, замахала крыльями схематичная богиня Ника с венком в руке.

И мало того, что она там повисла, так вокруг нее прицепились еще и ангелочки с трубами! И самое занимательно – тогда я не могла поверить своим глазам, да и теперь каждый раз, когда вижу этот памятник, мне хочется протереть глаза и потрясти головой, чтобы удостовериться, что не сплю. Святой Георгий, сидя на коне с копьем в руке, но без меча, тыкает копьем в змея, а змей ровно порезан на куски как краковская колбаса! На этом снимке хорошо видны эти цилиндрические колбасные кусочки, и на следующем тоже (это я снимала лет пять назад). и видно, что меча у Георгия нет. Ну как он одним копьем змея так нарезал?!

В то время мы изощрялись в остроумии, издеваясь над колбасным змеем, а теперь я просто недоумеваю – да, у художника свое видение темы, да, он имеет право быть необычным, но быть настолько нелогичным – это как? Но о логике речь тогда не шла. речь шла о большом заказе, и он был действительно большой, даже на крыше галереи, где вообще ничего такого проектом не предусматривалось, появились всадники с трубами, а рядом с ними на краю крыши – бесчисленные ангелочки, напоминающие классических "путти", но трубящие в трубы. Злые языки из числа строителей называли эти фигурки "зурабчиками", что всем определенно нравилось. Теперь этих "зурабчиков" на крыше не видно – то ли переставили, чтобы не видно было, то ли вообще сняли. Всадники, правда, остались. И те скульптуры, что предлагались когда-то на конкурсе, тоже остались. В музее в верхнем зале стоит фигура солдата с поднятым над головой автоматом и с веселым лицом, а в нижнем – печальный солдат, склонивший голову перед памятью погибших. Это обычные памятники, в них нет ничего особенного, но там, где они стоят, они трогают душу. А в картинной галерее – выставки хороших картин художника Нестеренко и других, и кондиционирование работает до сих пор, и отопление, разумеется, тоже. А на улице, на ступеньках – маленький памятник строителей самим себе. Всякое здание – это памятник тем, кто его строил.
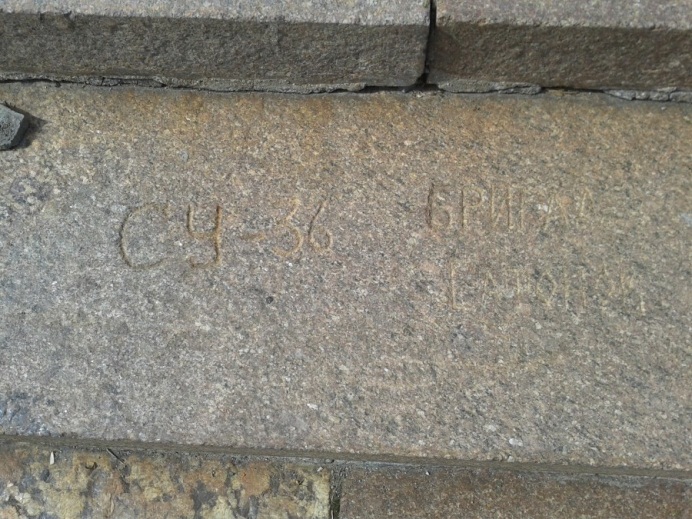
18. Если начать с завода Гужона…
Вот с него и начну. Одна моя знакомая, когда видела что-то техническое, запутанное и страшное, так и говорила: "Ну это просто завод Гужона!" А что он такое был – этот самый завод? А то, о чем тем более слышали все московские жители – завод "Серп и Молот". Переименованный после революции, последний металлургический завод в черте города, во времена моего детства и юности он еще работал в полную силу, но – только на металлоломе. В девяностые годы начал хиреть, как и вся наша промышленность, и в отличие от многих предприятий – не выжил. Скорее всего, в этом была закономерность – все-таки не место металлургическому заводу почти в центре столичного города. Теперь на его месте будет какой-то центр развлечений. Проект был конкурсный, международный, выиграла конкурс проектная фирма из Нидерландов, и круг замкнулся потому что начинался завод тоже с европейцев.
Хозяин завода, господин Гужон, был бельгиец (по некоторым данным – француз), но я ведь рассказываю то, что помню, а помню почему-то именно что бельгиец. Инженеры были тоже европейцы, жили недалеко от завода, да к тому же имели дачи в Новогиреево. Когда я первоклассницей переехала в Новогиреево, там еще сохранялись эти дачные домики – деревянные, посеревшие от времени, замысловатые, с остроконечными башенками и множеством узких окошек. Старожилы называли их "немецкими дачами". В одном из таких домиков жила моя подруга, и я как-то была внутри – вид был совершенно дачный, стены тоненькие, непонятно, как жильцы умудрялись сохранить тепло в этом очень европейском и очень дачном строении. Потому эти домики и сносили в первую очередь, и строили на их месте современные, многоэтажные, перекрывавшие старые улицы, мелкой сеточкой покрывающие Новогиреево.
С улицами в Новогирееве моего времени было почти как в Нью-Йорке. Все эти узенькие, но прямые дорожки шли строго параллельно друг другу, именовались проспектами и были с номерами: Первый проспект, Второй проспект… Мы жили на Девятом проспекте, а всего их было одиннадцать. Перпендикулярно шли улицы покрупнее, они уже больше походили на проспекты и назывались революционно-демократически: Федеративный проспект, Свободный проспект. Один старый (уже в те времена старый) краевед рассказывал, что до революции те проспекты, которые побольше, назывались дворянскими титулами: Графский, Княжеский. А те, что поменьше и под номерами, в царское время носили имена женщин императорской фамилии: Аннинский, Мариинский. За пятьдесят лет от мелких проспектов почти ничего не осталось, и номеров уже нет. Первых трех проспектов не было уже даже когда я переехала. Пятый, седьмой, восьмой, девятый и одиннадцатый атрофировались в семидесятые годы. Четвертый, если не ошибаюсь, стал улицей Сталеваров (я не вполне в этом уверена, может быть, это Пятый), Десятый – это улица Мартеновская (тут ошибки быть не может), а как теперь называется Шестой – не знаю, но улица сохранилась.
Вообще металлургических названий в районе было и до сих пор сохранилось несколько – есть еще улица Металлургов. Но не металлом единым живо было Новогиреево. Был еще Кусковский химзавод, в полном смысле отравлявший всем жизнь – году в шестьдесят пятом во время одной из аварий от ядовитых выбросов пожухли все листья на деревьях, да и потом такие запахи иной раз шли по району… Химзавод закрывали постепенно, и окончательно он перестал работать лет пятнадцать назад. На память осталось только название улицы – Полимерная. Конечно, на волне переименований можно было бы вернуть ей и историческое название, но оно еще хуже – Левоокружной проезд.
На полпути от завода Гужона до Новогиреева был еще Электродный завод. Не знаю, как он сейчас, но улица Электродная есть, в мое время старушки называли ее "Электронной". Могла быть и станция метро Электродная, так было в проекте и во время строительства желтой ветки метро. Но когда построили, эту станцию назвали более стандартно – "Шоссе Энтузиастов", тем более, что она и стоит на шоссе.
Многое меняется, названия остаются. Когда-то они казались скучными, потом – ужасно пошлыми и совковыми, а теперь это – память о том, что когда-то было.
19. Сквер для пользы государственной



