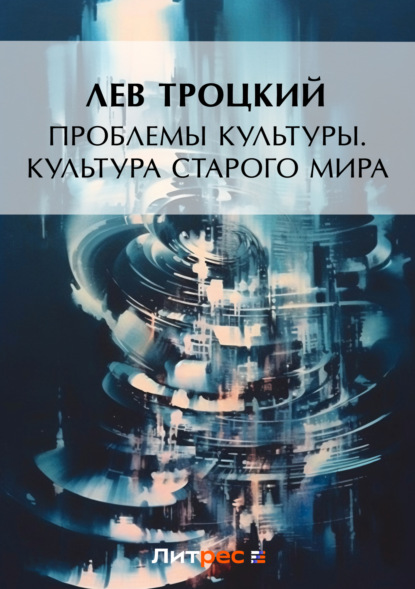 Полная версия
Полная версияПроблемы культуры. Культура старого мира
– Позвольте, – перебил приват-доцент, как бы сразу овладев какою-то мыслью, – я допускаю, что вам мистику заменяет борьба, азарт ее, пыл ее, порыв и натиск. Допускаю. Но тому новому человеку, которому вы не передадите в наследство вашей борьбы, – ему как быть? Мысль у него будет свободна, душа безмятежна, досуга достаточно. Вдруг возьмет да и спросит: а дальше что? – и, не найдя ответа, возвратит вам «входной билет».
– Во-первых, вы меня напрасно изволили прервать. Во-вторых, вы весьма неискусно строите будущего человека по образу и подобию своему. В-третьих, скажу вам откровенно: самочувствие будущего человека не причинило мне еще ни одной бессонной ночи. Пусть он сам устраивает порядок у себя внутри, с нас довольно и того, что мы передали ему хорошее хозяйство извне. Сейчас-то вопрос во всяком случае не в этом. Дело в том, что вы или, вернее, те, с кем вы не смеете соглашаться, отказываются верить в самую возможность пришествия будущего человека без костылей мистики. Сознательно или бессознательно вы повторяете Ренана. «С помощью химер – говорит он где-то – гориллу удалось побудить к удивительным нравственным усилиям; когда не станет химер, исчезнет и та искусственная энергия, которую они вызывали». На вашем языке это значит, что, испугавшись охлаждения солнца, человек наденет мозги набекрень и уйдет в скверное место. Но ведь это-то именно и есть клевета на человека. Здесь-то и проявляется цинизм маленького умственного бонвивана, который смеет думать, что только фальшивые приманки и наживки на уде истории могут спасти человечество от рецидива дикости. В этом брезгливом социальном нигилизме, дополненном портативной мистикой и эротикой – а у пошехонских пессимистов просто клубничкой с разговорами – я вижу не развитие от человека к сверхчеловеку, а эволюцию вспять, от мещанина – к горилле, хотя бы и философствующей. И поруку дальнейшего развития – это раз навсегда! – мы ищем и находим не в переживаниях отдельной души, а в неотразимом, глубоко реалистическом, от всяких химер свободном напоре масс!
«Общественная жизнь есть жизнь практическая по существу» – сказал величайший материалист прошлого века. – Все таинственное, все то, что ведет теорию к мистицизму, находит рациональное решение в человеческой практике. И с другой стороны, крупнейший индивидуалист-декадент подошел к той же мысли с противоположного конца: «новейшее, шумливое, торгующее временем, гордое собою, глупо-гордое трудолюбие, – говорит он, – более всего прочего воспитывает и приуготовляет именно к неверию». Поймите, ведь только досужее, уставшее от бездействия субъективное сознание конструирует «неразрешимый конфликт» между социальной повинностью и повинностью смерти. Общественная практика тут противоречия не знает, и мы видим, как из века в век старшие поколения расчищают дорогу для младших, для еще не пришедших. Мы хотим это инстинктивное творчество пропитать напряженным сознанием. Не потому, что этого требует бог, или мораль, или любовь к грядущим поколениям, – а потому, что это украшает, и обогащает, и осмысливает нашу собственную жизнь. Но тут-то и начинается, по-вашему, трагедия: разрыв субъективного с объективным, восстание сознавшей себя личности против общественного тягла. Верно ли? Для всех ли верно? Для многих ли верно? Оглянитесь кругом, говорю вам снова: вас – горсть, а нам – несть числа…
… Реалистическая активность и изнывающая от бездействия мистичность! Эта антитеза подтверждается на классах, группах, на отдельных лицах. Скажу грубо: в нашу эпоху человек сидячего образа жизни (то есть, во всех смыслах – сидячего), если он не патентованное бревно, непременно кончает расстройством идейного пищеварения. Только широкая практика, активность, только воля в действии может обеспечить правильный душевный бюджет. Позвольте наскоро параболу или притчу. Было тихо и недвижно в воздухе, паруса висели безжизненно, размышляли над своим назначением и роптали на бесцельность мироздания. Но подул сильный ветер и напряг паруса. И вот они уже больше не умствовали по поводу своего назначения, а радостно осуществляли его и уносили корабль в открытое море. Парабола моя, может быть, плоха, да мысль хороша.
"О, разрешите мне загадку жизниДревнюю, полную муки загадку!" -Скажите мне, что есть человек?спрашивает пассивный созерцатель, воля которого висит бесцельно, как парус во время штиля."Откуда пришел он? Куда он пойдет?И кто там над нами на звездах живет?……………
И дурак ожидает ответа"…
говорит о нем Гейне…
Но я не досказал притчи. Среди парусов были дырявые – от природы или от времени, это все равно. Буря свистала в их отверстиях, но они не напрягались. Злобствуя на собственную ненужность, они от резонерства и жалоб перешли к циничному мирохульству. А это грех смертный, иже не простится вовек!..
… Вы берете этих душевно-дырявых под свою защиту. Вы говорите, что мы им ничего не даем. Что современное искусство, на которое мы нападаем, дает им хоть суррогат веры. Если хотите, это верно: в импрессионизме, несмело мистическом, на что-то намекающем, «религиозные» (то есть по-просту видовые, социальные) инстинкты наслаждаются сами собою, не ища проявления вовне. Особая мастурбация души! Это искусство не только потакает социальному безволию интеллигенции, но и систематически усиливает его… В одном вышедшем на днях немецком философском памфлете я встретил такое приблизительно замечание: «Искусство почти безнравственно – как опиум. Оно доставляет духу мимолетное удовлетворение и оскопляет его по отношению к постулатам реального мира, из них же первый – удовлетворение миром в его реальности». По отношению к современной литературе это убийственно верно. Она спиною стоит к большому реальному миру и, вместо удовлетворения им в его реальности, сеет лишь безответственную брезгливость к нему. В ней есть какой-то расслабляющий аристократизм, как в Версилове{131}, который немощно жаловался, что действительность всегда попахивает сапогом… Под удовлетворением реальностью сущего вы, конечно, не поймете удовлетворения сущим. Наоборот, совершенно и абсолютно наоборот: великий и настойчивый протест против сущего возможен только на почве безусловного признания мира в его неотразимой реальности. И с другой стороны: мистическое самовознесение над миром означает в действительности примирение с сущим во всем его реальном безобразии. И говорю вам от глубины сердца: когда скверно пахнущий сапог действительности растирает в порошок философские и эстетические дисциплины не от мира сего, я ничего не испытываю, кроме злейшего злорадства. Литературы вашей не приемлю: не потому что она символична, не потому что она импрессионистична, не потому что она мистична, даже не потому, наконец, что в большинстве своем она плоха, – но потому что она заражена проказой безнадежности, потому что в своей злобствующей безысходности она – хула, подловатая, трусливая хула на суверенный Сапог действительности (с прописной буквы произношу: сапог), – не на сущее, пред которым она в грязи волочится, но на реальное, на действительное, то есть на само человечество в его будущих победах над собою, на его великий завтрашний день! Вот почему в лучшие мои часы, когда я поднимаюсь над самим собою, над российским интеллигентиком третьедумских ид, когда я приобщаюсь мыслью и чувством к безыменному творческому упорству миллионов, я не приемлю – слышите: не приемлю – ни одной капли вашего литературного опиума…
… Я знаю, я знаю, что можно возразить: какое, мол, мне дело до человечества и до его завтрашнего дня, когда я, человек, может быть, уж сегодня издохну. Ведь это же и есть вся мудрость скептицизма и вся похвальба состоящего у него в молотобойцах цинизма! И знаете: пир, истинный пир для моего злорадства слышать мистический визг собак, ошпаренных горячим страхом смерти, – и думать: а все-таки издохнете! Душу жизни вы оплевать хотите, потому что смерти боитесь, – и все-таки издохнете!
– Злорадство – не ответ… – проворчал приват-доцент.
– А кто вам, голубчик, сказал, что я намерен им отвечать? Пусть их хоронят свою падаль. Мы не нуждаемся в них. Поняли: не нуждаемся. Этой-то уверенностью мы и горды, что прекрасно обойдемся без них!
Все почувствовали, что разговор уперся в тупик, – курили и молчали.
– А мне вы все-таки не ответили… – прервал стеснительное молчание бледнолицый юноша.
– Ах, да, это по поводу «анархизма плоти». С ним, знаете, то же, что с анархизмом вообще: er glaubt zu schieben und er wird geschoben (думает, что двигает, а между тем двигают его). Он мило воображает себя беспощадным, разрушительным. Между тем он рабски копирует то, что есть. Хозяйственной анархии, как факту, он противопоставляет хозяйственную анархию, как идеал. И точно так же – «анархизм плоти». Подумаешь, невесть какая смелость – отрицание морали, эстетики, даже гигиены любви. Но ведь это просто скверная копия скверной натуры!..
Входная дверь завертелась, и в туго набитый зал вдвинулась целая стая гризеток с лицами улыбающихся мумий, в платьях, похожих на цветные вывески, наброшенные на голые тела. Одна отделилась и медленно протиснулась к русскому столу. Долго и равнодушно следила за звуками чужой речи и равнодушно отошла.
– Вот эта самая девица, – вслед ей сказал журналист, – и есть подлинная, хотя и подневольная жрица анархизма плоти, неотразимая учительница половой морали. Я не играю парадоксами, господа, и самая мысль эта не сейчас мне впервые в голову пришла. Где учится юноша искусству любви? У них. Там он собирает первые неизгладимые, неугасимые впечатления, там он научается брать любовь без всяких психологических обязательств – не к той, к другой, а к самому себе, – там формируется, если позволите так сказать, его половая личность. А затем он несет с собою эту атмосферу гризетки всюду, – и его возлюбленная, или его жена усваивает в его школе манеру, приемы и мораль гризетки, если она не усвоила всего этого уже от его предшественника.
… Фридрих Ницше, ваш коллега по филологии, – обратился он к приват-доценту, – где-то сказал: «католицизм дал Эросу выпить яд, он не умер от этого, но превратился в порок». Что же делают ваши модернисты? Они отрицают то, что официальный католицизм взял под свою защиту: единобрачие по гроссбуху, за подписом и печатью, закономерное производство чад по узаконенному патенту, – это они отрицают. Что же они утверждают? Может быть, старого, жизнерадостного, не сомневающегося в себе Эроса (нотабене: если такой был)? Никогда! Их нынешний Эрос прошел сквозь строй средних веков. Его отравляли предрассудками аскетизма, наконец, просто морили работой, скверно кормили и привили ему рахит, золотуху и худосочие… Уморить его не уморили, но превратили в порок. Вот этот-то отравленный средневековьем, побывавший во всех лупанарах и больницах Эрос и есть их несчастный бог!
– Простите, пожалуйста, – перебил юноша, слушавший с болезненным вниманием, – вы сейчас рассуждаете, мне кажется, как профессиональный моралист. Вместе с официальными инспекторами наших душ вы устанавливаете, что есть добродетель и что есть порок, а затем говорите: вот вам устав о половом благочинии, сообразно с сим поступайте. Это, как угодно, тоже не очень смело и не очень оригинально.
Юноша покраснел; все чуть-чуть улыбнулись.
– Очевидно, я очень дурно выразил свою мысль, – мягко сказал журналист, – если вы меня в такой степени превратно поняли. То, что мне так противно в нашей нынешней литературе, так это именно ее морализированье – хотя бы и наизнанку. Анархизм плоти, арцыбашевщина – ведь это сплошное и надоедливое поучение: не бойтесь, не сомневайтесь, не стыдитесь, не стесняйтесь, берите, где можете… А раз морализированье, я имею право спросить о принципе его?
– Принцип: свобода и гармония личности.
– Вот-вот: свобода и гармония. Я мог бы придраться и сказать, что это бессодержательно. Ибо что такое свобода и что такое гармония? Но я принимаю вашу формулу. И именно стоя на этой точке зрения, я считаю себя вправе утверждать, что санинщина есть самое преступное обворовывание личности… Гармонии хотите вы? Умеете ли вы эту вашу тоску по личной гармонии вставить в социальную перспективу, или нет, но вы должны себе сказать, что гармония без полноты, без сохранения всего благоприобретенного нами в муках исторического развития, гармония путем операционного устранения противоречий, путем психологического опрощения, абсолютно неприемлема, если б она даже и не была безнадежной утопией. Dans le veritable amour c'est l'ame qui enveloppe le corps (в истинной любви душа обволакивает тело)… На стебле половой любви выросли такие психологические цветы, от которых мы не хотим и не смеем отказаться. Ибо иначе получим «гармонию» скотного двора.
– La seance est close, messieurs! (Заседание закрыто, господа!) – иронически обратился лакей к русскому столику, указывая на почти опустевший зал и потушенные в разных углах лампы. – A demain, s'il vous plait. – До завтрашнего дня!
«Одесские Новости» N 7510, 6 мая 1908 г.
Л. Троцкий. ЭКЛЕКТИЧЕСКИЙ САНХО-ПАНСА И ЕГО МИСТИЧЕСКИЙ ОРУЖЕНОСЕЦ ДОН-КИХОТ[183]
Я недавно прочитал в одной русской газете, что нынче реализм окончательно упразднен, и если сохранились жалкие остатки, так это лишь на задворках, в марксистских брошюрах. Ну что ж, упразднен, так упразднен. Вон господин Кузмин[184] законы естества упразднил, и то мироздание не свихнулось со своих основ, – а тут ведь упразднена только материалистическая философия, значит отчаиваться пока нет оснований. Но кем собственно упразднен реализм, этого автор не хотел открыть. Про себя же самого мимоходом признался, что с мистиками чувствует себя позитивистом, с позитивистами – мистиком; с декадентами тоскует по натуралистам, от натуралистов всегда хочет бежать к декадентам. Значит, человек чувствует себя в высшей степени налегке. В давно прошедшие времена (т.-е. месяцев двадцать-тридцать тому назад) такому господину можно было бы сказать: «да ведь это зовется беспринципностью и хвастать тут, милый человек, решительно нечем». Но нынче этими «жалкими словами» никого не проймешь. Принципиальность тоже сослана на задворки, вместе с остатками реализма. При чем, опять-таки, не принято выяснять, идет ли речь просто о временной административной ссылке на географические задворки или о ссылке, так сказать, «духовной» и совершенно безвозвратной. Даже самый вопрос этот почитается в высокой степени неприличным, ибо он будит некоторые неприятные воспоминания, скребет совесть и рождает чувство неуверенности… А ничто так не ценится господами, кокетливо гуляющими налегке, как душевный покой. Было бы непозволительной наивностью думать, что их колебания между позитивистами и мистиками порождены смятением ищущей души. Ни в малой мере. Кто ищет, тот никогда не хвастает тем, что ничего не нашел. А эти поистине имеют, что надо. В тепловатой водице своего равнодушия они растворили горсть позитивизма, щепотку мистики, горсть скептицизма, немножко эстетики, даже немножко цинизма, – и больше всего они боятся, чтобы какой-нибудь грубый внешний толчок не вывел их из состояния равновесия и не расплескал бы до дна их нищенскую эклектическую жижицу.
Они в сущности очень трусливы, эти господа, заучивающие перед зеркалом гримасу презрительного самодовольства. В самой глубине их душ (значит не на очень большой глубине) гнездится ноющий страх пред реалистическими задворками. Оттуда всегда можно ждать огромных, фатальных неприятностей…
Вы знаете, почему они так торопятся умалить и унизить вчерашний день? Именно потому, что боятся завтрашнего. Они трусы, эти эклектики. Они завидуют даже мистикам, несмотря на то, что так покровительственно хлопают их по плечу. И зависть их была бы несравненно жгучее, если б сами мистики не были сделаны из такого ненадежного материала. Но в том-то и дело, что наши мистики – это только позитивисты, отчаявшиеся в своем вульгарном позитивизме, и потому напрасно стали бы вы у них искать настоящего мистического нутра.
Какой-то остроумный француз назвал Генриха Гейне romantique defroque – так сказать, романтик-расстрига. Это замечательно метко. И вы на каждом шагу видите в гейневской лирике, как скептик внезапно обрывает романтика и бесцеремонно показывает ему язык. Les proportions gardees, т.-е. при совсем иных пропорциях, с нашим нынешним мистиком происходит нечто похожее. Он не мистик, а позитивист-расстрига. Поэтому с ним на каждом шагу бывают неприятнейшие духовные эпизоды, и не раз в моменты высших «откровений» его старый, не перегоревший позитивизм дразнит его высунутым наружу языком.
… Эти две фигуры: трусливо-высокомерный эклектик и «гениально» взбалмошный мистик представляют собою нашу новейшую вариацию на тему Санхо-Панса и Дон-Кихота. Но увы! Как радикально переменились их роли. Хозяин теперь Санхо, а Дон-Кихот при нем для поручений, – что-то среднее между пророком и шутом.
«Киевская Мысль» N 228, 18 августа 1908 г.
Л. Троцкий. АРИСТОТЕЛЬ[185] И ЧАСОСЛОВ[186]
«Паровой цыпленок – всем бы цыпленок: и бегает, и клюет, и пищит. Но не плодится. А не плодится потому, что души в нем нет. Настоящей душой снабдить цыпленка может только наседка, когда все ее куриные мысли и чувства вместе с теплом от нее в яйцо идут. Паровой же цыпленок – машинная тварь: температура в нем есть, а совести нет. Потому и не плодится». В этом психо-физическом обстоятельстве огромной важности (см. у Успенского «Паровой цыпленок») кроется, по-видимому, разгадка фатального бесплодия отечественных мистиков машинно-интеллигентской фабрикации.
У всех больших религиозных новаторов и реформаторов была связь с великой наседкой – массой. Ее органическим теплом согревались их видения, обличения и пророчества. В новых догматах находили свое выражение уже назревшие потребности коллективной души. И лишь в том случае новые религиозные учения входили живой силой в историю, если уже в самой колыбели своей они были обвеяны животворящим дыханием масс. Между массовой душой и между личной душой пророка та же матерински-дочерняя связь, что между настоящей наседкой и настоящим, не машинным цыпленком: «все мысли ее из ейной души в цыплячью душу идут, и цыпленок тоже принимает ейные мысли и заботы»… Происходило это в те давно прошедшие времена, когда и прогрессивные задачи искали для себя религиозной оболочки. Но если хоть бегло обозреть происхождение нашего «нового религиозного сознания», то сразу станет ясно, что оно шло по совершенно другому, вернее сказать, противоположному пути… Интеллигентская мистика есть продукт двух прискорбных исторических обстоятельств: во-первых, разрыва между малой и большой душой, во-вторых, великого перепуга малой души. Перепуга перед тем «стоглавым, безмозглым и злым чудовищем, которое толпой зовется».
Стихийного религиозного творчества, которое черпает из глубокого колодца души народной, – это в нашу-то эпоху! – придет ли кому в голову искать у гг. Мережковского, Минского, Булгакова и Бердяева? Здесь все надумано, рассчитано, умышленно. Здесь вера индивидуалистична, условна, хрупка, словесна, целиком состоит из эстетических и филологических комбинаций, греческих цитат, литературных аллегорий, ницшеанских афоризмов. У одного работа художественнее, у другого – ремесленнее, но у всех, если говорить с Шекспиром, «на часть ума – три части трусости».
Их мистика не только индивидуалистична, но и индивидуальна. У каждого своя собственная система – вечной абсолютной божественной правды. Ее содержание зависит от того пути, каким каждый из них шел, и представляет что-то вроде литературно-философского дневника, не очень интимного и не очень искреннего, ибо подготовленного для печати. Религиозный фанатизм, воинствующая идейная нетерпимость, гнев обличения, страстный прозелитизм им совершенно чужды. Для фанатизма нужно высокое горение душ, а они, подобно ангелу лаодикийской церкви[187], – да и ангелу-то XX века! – «не холодны и не горячи».
Как-то один из мистиков (или полумистиков: есть и такие!), г. Франк[188], пытался даже возвести эту культурно-эстетическую «терпимость», т.-е. в сущности душевное безразличие, в догмат нового религиозного сознания. Как классический пример духовной уживчивости, он приводил Вестминстерское аббатство, под сводами которого великие мистики, деисты и безбожники лежат рядом, не оскорбляя друг друга. Убийственное сравнение! Люди, которые хотят возродить старый мир новой религией, вдохновляются культурной умиротворенностью… вестминстерского кладбища.
Нарядное бессилие – такова общая физиономия наших мистиков, и непосвященному нужно подойти к ним вплотную, чтобы убедиться, что у каждого есть еще и своя собственная физиономия.
Наиболее пестрая, хотя и далеко не наиболее выразительная, – у г. Бердяева. Он кочует по истории мировой мысли – с пледом через плечо, с саквояжем в руке – как живое свидетельство того ослепляющего разнообразия средств духовного туалета, которое европейская культура предоставила в распоряжение русского интеллигента.
От материалистической философии и социального радикализма г. Бердяев в течение нескольких лет совершил переход к новому, спиритуализированному христианству. Долго ли он задержится на этом этапе? Не знаем и не считаем интересным загадывать. Но тем поучительнее спросить, чего искал и что нашел г. Бердяев в своем новом credo.
Толстой говорит где-то, что хороши, дескать, концерты, спичечницы, подтяжки и моторы; но ежели для их создания нужно девять десятых народа обратить в рабство, то пусть уж лучше пропадом пропадут все моторы и все подтяжки. А старый раскольник говорит: «На что твердые домы? Жду внезапного пришествия Христова». Эти оба вида аскетизма, – один, вытекающий непосредственно из общественных побуждений, и другой – из раскольничьей мистики, – одинаково чужды г. Бердяеву. Наоборот, вся его спиритуалистическая вера нужна ему именно для освящения материальной культуры. Он ни от чего не отрекается. Вагоны, книги, часы, концерты и подтяжки, конечно, «сами по себе» прах и тлен, – но они сразу просветляются и одухотворяются, если признать за ними высший божественный смысл. По дороге в царство нового религиозного сознания г. Бердяеву, как Осипу{132}, всякая веревочка пригодится. Не отвергать эту веревочку нужно, а всячески приумножать. Разумеется, только «вульгарные материалисты» могут прилепляться к часам и подтяжкам в их эмпирической телесности: для Бердяева же весь исторический инвентарь материальной культуры ценен тем, что в некоем высшем трансцендентном порядке инвентарь этот, как библейская лестница Иакова, ведет в небеса нового религиозного сознания{133}.
Как хотите, это очень удобная мистика – портативная и нимало не стеснительная. Она ни к чему не обязывает. Она ничего не требует. Ни аскетизма, ни покаяния в грехах культуры. Ни даже – отречения от подтяжек. Подумать только! Святой Криспин сдирал кожу с богатых и шил из нее сапоги для бедняков. По рецепту г. Бердяева (впрочем, вовсе и не Бердяева), я для своего душевного равновесия отнюдь не нуждаюсь в таком жестоком ремесле. Мне достаточно уверовать, что босоногие составляют необходимую часть трансцендентного миропорядка, – и я сразу спасаю (для моего собственного употребления) весь неправедный мир во всей его неправедности, не сдвинув на его материальном облике ни единого волоска. Эта мистическая алхимия казалась бы крайне привлекательной, если б не была такой… дешевой. Но – увы! – в этой морально-философской дешевизне и состоит сущность бердяевщины.
Однако, не дешевизна сама по себе – больное место специфически-бердяевской струи в нынешней интеллигентской мистике: на дешевый товар всегда есть спрос. Но вот чего интеллигенция не переварит, так это мистического позитивизма или, если позволите, мистического натурализма. Пока теософы и спиритуалисты занимают критическую позицию по отношению к опыту и разуму, пока они только ищут путей из ограниченного Здесь в безграничное Нигде, они рисуются в некотором заманчивом и поэтическом ореоле. Но как только они нашли священный ключ, открыли врата в страну Нигде и описали ее административное устройство, – тут и конец обаянию. Нынешний удрученный интеллигент готов, пожалуй, согласиться с чиновником Лебедевым, что «неверие в дьявола есть французская мысль, есть легкая мысль». Но уверовать в дьявола – с копытами, хвостом, шерстью и запахом серы – нет, на это он неспособен. Просто, в горло не полезет, как ламповая щетка. И в этом маленьком психологическом обстоятельстве – источник больших преткновений…
Сам г. Бердяев уверовал в киевскую ведьму. Для этого, как хотите, нужен талант (при условии: «коли нет обмана»). Но это во всяком случае талант, пригодный лишь для собственного душевного обихода. Однако, этого мало даже для мистика-индивидуалиста. Он нуждается в сочувственной атмосфере. Если не священный огонь прозелитизма, то борьба за личное самосохранение заставляет его искать сочувствия. Где? Разумеется, не у масс. Мистика масс для него, как для Версилова, слишком отзывается сапогом. Он обращается к интеллигенции, говорит туманными формулами, прячется за цитаты из Достоевского и Вл. Соловьева и сам больше всего боится назвать по имени конкретные формы своей теософии. Но, в конце концов, из всего мистического тумана выступает один несмелый полузаглушенный вопрос: «не лучше ль тебе изучить часослов и жизнь вечную получить, чем постигнуть Аристотеля и в геенну отойти?». На часть ума – три части трусости. Но все же «часть ума» остается. Объявить разум «девкой дьявола», как некогда Лютер[189], не хватает смелости. И вот эта-то признанная законной «часть ума» причиняет величайшие беспокойства, как заноза в пальце или горошина в сапоге. Аудитория чувствует ее в учителе, учитель – в аудитории. Статью прочтут, лектору похлопают, но «новым религиозным сознанием» не озарятся. И сам учитель, который получил в свое распоряжение вечную истину, вместо того чтобы чувствовать себя ублагомиротворенным и перелагать псалмы в стихи или вышивать по тюлю, пребывает в непрерывном раздражении, шипит по адресу тех, кто обидел его своей идейной устойчивостью, изгоняет отовсюду «бесов», пускает отравленные стрелы по «прозаикам социального строительства» и доходит до того, что самый огромный и самый трагический период нашей истории, 1905-й год, называет хулиганским.



