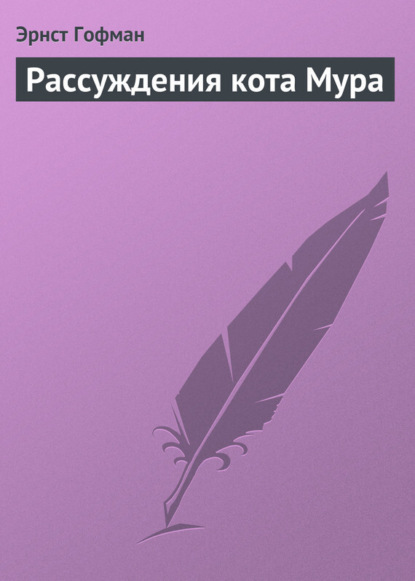 Полная версия
Полная версияРассуждения кота Мура
Само собой разумеется, что по окончании дуэта все разразились громким смехом и знаками одобрения.
Крейслер в восторге поцеловал у Юлии руку, которую она сейчас же отдернула.
– Ах, – сказала она, – я никак не могу уследить за вашим странным, можно даже сказать – причудливым, настроением. Это salto mortale из одной крайности в другую бросает меня просто в холод. Прошу вас, дорогой Крейслер, не требуйте от меня исполнения комических вещей, даже и таких прекрасных, как эта, когда я еще вся в волнении и в душе моей продолжают звучать отголоски глубокой печали. Я могу это делать, могу себя пересилить, но после этого я чувствую себя совсем больной и усталой. Не требуйте этого больше! Ведь вы обещаете это мне, не правда ли?
Крейслер хотел отвечать, но в эту минуту принцесса обняла Юлию, смеясь при этом гораздо громче, чем это подобало по мнению какой бы то ни было гофмейстерины.
– Приди в мои объятия, – воскликнула она, – ты, самая игривая, прелестная и голосистая мельничиха в свете! Ты мистифицируешь всех баронов, чиновников и нотариусов, какие только есть на земле, и даже… – Но то, что принцесса хотела сказать, пропало, заглушенное громким смехом, которым она опять разразилась. Она продолжала, быстро обернувшись к Крейслеру: – Вы совершенно примирили меня с собой! О, теперь я понимаю ваш переменчивый нрав. Он просто великолепен! Только в борьбе разнообразных ощущений и противоположных чувств и есть настоящая жизнь! Я вам от души благодарна! Позволяю вам поцеловать мою руку!
Крейслер схватил протянутую ручку и снова почувствовал удар, но в более слабой степени. Он принужден был даже немного подождать, прежде чем прижал к губам нежные пальчики принцессы, скрытые перчаткой, кланяясь при этом с такой изысканной вежливостью, точно он еще и теперь был посольским советником. Неизвестно – почему, это физическое ощущение от прикосновения к руке принцессы необыкновенно его рассмешило.
«В конце концов, – сказал он себе, когда принцесса от него отошла, – ее высочество не что иное, как лейденская банка, которая по собственному усмотрению наделяет честных людей электрическими ударами».
Принцесса танцевала и прыгала по зале, смеясь и напевая «La Rachelina molinarina», ласкала и целовала то ту, то другую даму и уверяла, что никогда в жизни не было ей так весело и что за это должна она благодарить милого капельмейстера. Это было в высшей степени не по вкусу серьезной Бенцон; она не могла удержаться от того, чтобы не отозвать принцессы в сторону и не шепнуть ей на ухо:
– Гедвига, опомнитесь, что за поведение?
– Я думаю, дорогая Бенцон, – отвечала принцесса, сверкая глазами, – что сегодня мы можем оставить поучения и идти спать. Да, в постель, в постель!
И она велела подавать экипаж.
Принцесса впала в судорожную веселость, а Юлия сделалась тиха и печальна. Она сидела у фортепиано, положив голову на руку, и ее бледное лицо и воспаленные глаза показывали, что она страдает даже физически.
Алмазные искры крейслерова юмора тоже потухли. Он тихими шагами направился к двери, избегая всякого разговора. Бенцон загородила ему дорогу.
– Я не знаю, – сказала она, – что за странное настроение заставляет меня…
(М. пр.) …показалось мне таким родным и знакомым. Сладкий аромат какого-то прекрасного жаркого носился над крышей в виде голубоватых паров, и где-то далеко-далеко, как шелест вечернего ветерка, приветные голоса шептали:
– Милый Мур, где ты был так долго?
В груди стесненной пробежалПоток блаженства; жалкий духМой к небесам вознесся вдруг!Как боги, я всезнающ стал!Душа, я ныне восхищен,Тебя к высокому вздыму я!Уж в смех и в шутку превращенСтон безутешный, смертный стон:Надежда – я жаркое чую!Так пел я, погружаясь в сладчайшие грезы, несмотря на ужасный шум, производимый пожаром. Но, видно, и здесь суждено было мне испытать преследования страшных явлений грубой действительности, от которой я только что отделался. Не успел я оглянуться, как из какой-то дымовой трубы выскочило одно из тех странных существ, которых люди зовут трубочистами. Увидев меня, это черное чучело сейчас же закричало: «Брысь!» – и бросило в меня метлой. Уклоняясь от удара, я прыгнул на ближайшую крышу, а оттуда на кровельный желоб. Но кто опишет мое радостное удивление, когда я увидел, что нахожусь на крыше дома моего доброго господина? Я лазил от одного слухового окна к другому, но все были закрыты. Я возвысил свой голос, но тщетно: никто меня не слышал. Между тем, высоко поднимаясь над горящим домом, клубились облака дыма, со всех сторон прорывались струи воды, тысячи голосов перекликались между собой, и пожар как будто усиливался. И вдруг открылось слуховое окно, и мейстер Абрагам выглянул оттуда в своем желтом халате.
– Мур, Мур, славный мой кот! Это ты? Поди, поди сюда, моя серенькая шкурка!
Такими ласковыми словами звал меня хозяин, увидев меня на крыше. Я не преминул выразить ему мою радость всеми знаками, которые были в моем распоряжении. То была дивная, торжественная минута свидания. Хозяин так гладил меня, когда я вскочил к нему в слуховое окно, что от наслаждения я начал издавать то нежное и сладкое урчанье, которое люди, язвительно насмехаясь, называют мурлыканьем.
– Ага, – смеясь, говорил хозяин, – ты, верно, рад, что вернулся домой после долгих скитаний, и не подозреваешь о той опасности, в которой мы теперь находимся. Хотел бы я быть, как ты, счастливым, мирным котом, который не беспокоится ни об огне, ни о пожарной команде и не боится ничего потерять, так как единственная движимость, которой владеет его бессмертный дух, есть его собственная особа.
Тут хозяин взял меня на руки и унес в свою комнату.
Как только мы вошли, к нам бросился профессор Лотарио и еще двое каких-то господ.
– Прошу вас!.. – воскликнул профессор. – Заклинаю вас небом, мейстер, вы в ужасной опасности, огонь уже близко от вашей крыши. Позвольте, мы перенесем ваши вещи.
Хозяин ответил очень сухо, что в таких случаях излишнее усердие друзей бывает губительнее пожара, тогда как огонь по крайней мере посылает все к черту более красивым способом. Помнится, сам он однажды, желая помочь другу во время пожара, в пылу благодетельного энтузиазма бросил в окно китайский сервиз, чтобы он как-нибудь не сгорел. Если же друзья его совершенно спокойно уложат в сундук три ночных колпака, два серых сюртука и другое платье и белье, причем обратят особое внимание на шелковые панталоны, положат книги и рукописи в две корзины, а до машин его не дотронутся ни одним пальцем, то он будет им очень благодарен. Если крыша будет пылать, то он выберется отсюда вместе со своей движимостью.
– Но прежде всего, – заключил он, – позвольте мне подкрепить пищей и питьем моего усталого и ослабевшего сожителя и товарища, только что вернувшегося из дальнего путешествия, а после вы можете хозяйничать.
Все очень смеялись, узнавши, что мейстер подразумевает меня, мне же это чрезвычайно польстило. Вполне осуществилась и чудная надежда, которую я выражал на крыше мечтательно-нежными звуками. Когда я подкрепил свои силы, мейстер посадил меня в корзинку; места было так много, что рядом со мной он поставил еще блюдечко с молоком и заботливо прикрыл корзину.
– Сиди смирно, кот, – говорил мейстер, – мы не знаем еще, что с нами будет, а ты можешь тем временем заняться своим любимым напитком, тогда как, если ты выскочишь и начнешь расхаживать по комнате, тебе отдавят хвост или лапу в спасательной суматохе. Если же дело дойдет до бегства, то я унесу тебя сам, чтобы ты не удрал, как это уже с тобой случалось. Вы и не знаете, – обратился он к своим гостям, – вы и не знаете, многоуважаемые господа помощники в беде, что за чудный и основательный кот этот серенький господин, сидящий в корзинке. Ученые галлы уверяют, что коты, наделенные такими прекраснейшими свойствами, как наклонность к убийству, воровской инстинкт, хитрость и т. д., совершенно лишены инстинкта местности и, раз убежавши, никогда не находят своего дома, мой же кот составляет в этом отношении блестящее исключение. Два дня тому назад он потерялся, и я очень беспокоился о нем, но сегодня он возвратился, да еще при этом, смею вас уверить, воспользовался крышами, как местом приятных прогулок. Добрая душа проявила не только разум, но также и самую верную привязанность к своему господину, за что я люблю его теперь гораздо больше, чем прежде.
Похвала мейстера пришлась мне особенно по сердцу, я с гордостью почувствовал свое превосходство над всей нашей породой, над целой толпой заблуждающихся котов, лишенных инстинкта места, и удивлялся, как я до сих пор не заметил этого преимущества своего ума. Я помнил, что на настоящую дорогу вывел меня Понто, а на родную крышу – удар метлы трубочиста, но я не сомневался в своей проницательности и в справедливости похвалы моего господина. Я чувствовал свою силу, а это чувство убеждало меня, что похвала получена мною заслуженно. Судя по тому, что я где-то читал или слышал, незаслуженная похвала гораздо больше радует и возвышает всякого, чем заслуженная; но это применимо только к людям, умные коты не способны на такие глупости; я даже положительно думаю, что нашел бы дорогу и без Понто, и без трубочиста, оба они только спутали верное течение моих мыслей. Некоторое знание жизни, которым так гордился молодой Понто, конечно, пришло бы ко мне и другим путем, хотя различные случаи, пережитые мною с милым пуделем, с этим aimable roué[40], дали мне хороший материал для дружеских писем, в форме которых я изложил мое путешествие. Эти письма могли бы быть с успехом напечатаны во всех утренних и вечерних газетах, а также во всех изящных и либеральных листках, так как в них очень умно и тонко изображены самые блестящие стороны моего «я», что, конечно, очень интересно для всякого читателя. Но ведь я знаю: господа редакторы и издатели уже спрашивают: «Кто этот Мур?» – и, узнавши, что я – кот, хотя бы и совершеннейший на земле, говорят обыкновенно: «Кот, а тоже хочет писать!» И будь у меня юмор Лихтенберга и глубина Гумануса, – я знаю об обоих много хорошего, они немало потрудились для людей, но оба умерли, а ведь смерть довольно рискованная вещь для всякого писателя, которому хочется жить, – итак, повторяю я, будь у меня юмор Лихтенберга и глубина Гумануса, мне вернули бы рукопись назад, быть может, только потому, что им не понравится мой почерк, который выходит у меня таким от когтей. Вот что досадно! О предрассудки, вопиющие предрассудки! Как склонны к ним люди и в особенности те, что зовутся издателями! Профессор и бывшие с ним господа сделали из меня спектакль, который, по моему мнению, был вовсе не нужен при укладке ночных колпаков и серых сюртуков.
На дворе кто-то громко крикнул: «Дом горит!»
– Ого, – сказал мейстер, – надо взглянуть, что там делается; оставайтесь здесь, господа; если есть опасность, я вернусь, и мы будем укладываться.
И он поспешно вышел из комнаты.
Я не на шутку испугался. Страшный шум и дым, начинавший наполнять комнату, – все это увеличивало мой страх.
Мной овладевали разные черные мысли. А вдруг хозяин меня забудет, и я позорно погибну в пламени?
Вероятно, от страха я почувствовал внутри какое-то неприятное щипанье. «Эге, – думал я, – что если он, лукавый, завидуя моей учености и желая от меня отделаться, умышленно заключил меня в эту корзинку? Что если вдруг напиток этот, невинно-белый – не молоко, а смертельный яд, составленный коварною рукою с искусством страшным, чтоб меня сгубить?» О дивный Мур, даже в смертельном страхе мысль твоя слагается в ямбы, и ты припоминаешь то, что когда-то читал у Шекспира и Шлегеля!
В эту минуту мейстер Абрагам просунул голову в дверь и сказал:
– Господа, опасность миновала. Присядьте к столу да распейте две бутылки вина, которое найдете в стенном шкапу, я же еще некоторое время побуду на крыше, чтобы лить воду из насоса. Впрочем, сначала я посмотрю, что делает мой милый кот.
Тут мейстер вошел в комнату, поднял крышку моей корзинки и заговорил со мной самым ласковым тоном; он спрашивал, хорошо ли мне и не хочу ли я съесть еще одну жареную птичку. На все это я отвечал неоднократно самым нежным мяуканьем и очень приятно потягивался, что мейстер справедливо понял, как знак того, что я сыт, но хочу оставаться в корзинке, и снова опустил крышку.
Ласковое обращение мейстера Абрагама рассеяло мои сомнения. Я мог бы даже устыдиться моих гнусных подозрений, если бы умному коту подобало чего-либо стыдиться. «В конце концов, думал я, весь мой страх и все мои подозрения были не что иное, как поэтические грезы, присущие гениальным молодым энтузиастам, которые часто пользуются ими, как одуряющим опиумом». Эта мысль меня вполне успокоила.
Как только мейстер вышел из комнаты, я увидел сквозь небольшую щель в корзинке, что профессор как-то подозрительно взглянул в мою сторону и потом подозвал остальных таким знаком, точно он хотел открыть им нечто очень важное.
Потом он заговорил так тихо, что я не услышал бы ни словечка, если бы небо не одарило меня необыкновенно острым слухом.
– Знаете ли вы, чему я рад? – начал он. – Знаете ли вы, что я хотел бы подойти к этой корзинке, открыть ее и воткнуть этот острый нож в глотку проклятого кота, который сидит там и, может быть, смеется над нами в своем отчаянном самодовольстве?
– Что с вами, Лотарио? – воскликнул другой. – Вы хотите погубить красивого кота, любимца нашего дорогого мейстера? И зачем вы так тихо говорите?
Тут профессор объявил все тем же таинственным шепотом, что я все понимаю, что я умею читать и писать, что мейстер Абрагам каким-то таинственным и непонятным способом преподал мне разные науки, так что теперь, как открыл ему пудель Понто, я уже сочиняю в стихах и в прозе, и все это нужно хитрому мейстеру только для того, чтобы посмеяться над лучшими учеными и писателями.
– О, – говорил Лотарио, приходя в страшную ярость, – я предвижу время, когда мейстер Абрагам, который и без того уже завладел доверием эрцгерцога, сделает с своим несчастным котом все, что захочет. Эта бестия будет магистром прав, получит докторскую степень и, наконец, в качестве профессора эстетики будет читать в коллегии об Эсхиле, Корнеле и Шекспире! Я просто теряю голову! Кот будет рыться в моих внутренностях, а у него ведь ужаснейшие когти!
Услышав эту речь профессора эстетики Лотарио, все пришли в величайшее удивление. Один гость считал невероятным, чтобы кот мог выучиться читать и писать, так как эти элементы всякой науки, кроме искусства, доступного только человеку, требуют еще известного разума и понятливости, которые даются даже не всем людям, этим венцам творения. Про обыкновенных же зверей не могло быть и речи.
– Дражайший, – начал другой, как показалось мне, очень серьезный человек, – что называете вы обыкновенным зверем? Обыкновенных зверей нет. Нередко, погрузившись в спокойное самосозерцание, чувствую я глубочайшее уважение к ослам и другим полезным животным. Я не понимаю, отчего бы хорошему домашнему животному с счастливыми природными способностями не выучиться читать и писать и отчего бы такому зверку не сделаться ученым и писателем? Разве не было примеров? Я не говорю уже о «Тысяче и одной ночи», этом лучшем историческом источнике, полном прагматической достоверности, – но вспомните сами, милейший, о коте в сапогах: ведь это был кот, исполненный благородства, проницательного ума и глубокой учености.
Услышав эту похвалу коту, который, как ясно говорил мне внутренний голос, был моим достойным предком, я не мог удержаться и два или три раза довольно громко чихнул. Говоривший остановился, и все с удивлением взглянули на мою корзинку.
– Contentement, mоn cher![41] Будьте здоровы, мой милый! – воскликнул наконец говоривший перед тем человек и затем продолжал: – Если я не ошибаюсь, дражайший эстетик, вы только что упомянули о некоем пуделе Понто, который поведал вам про научные и поэтические занятия кота. Это напомнило мне милейшую Берганцу Сервантеса, о судьбах которой будет рассказано в одной новой и очень странной книге. Эта собака тоже представляет пример, сильно удаляющийся от обычных способностей к развитию животных.
– Однако, дорогой друг мой, – заговорил другой, – какие странные приводите вы примеры. Ведь про собаку Берганцу написал всем известный романист Сервантес, а история про кота в сапогах – это детская сказка, которую Тик рассказал так живо, что, пожалуй, по глупости действительно можно ей поверить. Итак, вы цитируете двух писателей, как будто они серьезные натуралисты и психологи, но ведь писатели – это фантазеры, изображающие совершенно невероятные вещи. Скажите, как может такой разумный человек, как вы, ссылаться на писателей, желая подтвердить то, что противно всякому смыслу? Лотарио – профессор эстетики, и потому неудивительно, что он хватает иногда через край, но вы…
– Постойте, постойте, милейший, – сказал серьезный человек, – не горячитесь. Обдумайте хорошенько и сообразите, что, когда дело идет о чудесном и невероятном, нужно ссылаться именно на писателей, так как обыкновенные историки ничего в этом не смыслят. Когда чудесному придается известная форма, и оно должно быть представлено чисто научным образом, доказательство какого бы то ни было положения следует брать у знаменитого писателя и на его словах строить все остальное. Я сообщу вам нечто такое, чем вы останетесь довольны, хотя вы и ученый врач; я приведу вам в пример знаменитого врача, который, делая научное описание животного магнетизма и желая доказать несомненное существование удивительной силы предчувствия, ссылается на шиллеровского Валленштейна, который говорит: «Не подлежит сомнению, что в человеческой жизни бывают моменты и голоса» и т. д. Вы можете прочесть остальное сами.
– Ого, – возразил доктор, – однако, вы скачете! Вы перешли уже к магнетизму и будете, наконец, уверять, что к числу прочих чудес, доступных магнетизму, принадлежит то, что с его помощью можно обучать восприимчивых котов.
– Но, послушайте, – сказал серьезный человек, – кто знает, как действует магнетизм на животных? Коты и так уже носят в себе электрический ток, как вы сейчас можете убедиться…
Тут я вспомнил горькие жалобы Мины на подобные эксперименты, производимые с ней, и так ужасно испугался, что испустил громкое «мяу».
– Клянусь Оркусом и всеми его ужасами, – воскликнул профессор, – этот дьявольский кот нас слышит и понимает! Я задушу его собственными руками!
– Вы неблагоразумны, профессор, – сказал серьезный человек, – никогда не потерплю я, чтобы кто-нибудь причинил хотя бы малейшее зло этому коту, которого я уже от души полюбил, хотя и не имел еще удовольствия близко познакомиться с ним. В конце концов мне остается только думать, что вы завидуете тому, что он пишет стихи. Ведь профессором эстетики этот серенький господинчик никак не может сделаться, вы можете быть спокойны на этот счет. Кажется, довольно ясно сказано в старых академических статутах, что вследствие бывших злоупотреблений ослы больше не могут быть профессорами; это правило, конечно, распространяется на зверей всевозможных пород, а следовательно – также и на котов.
– Ну, положим, – с раздражением сказал профессор, – кот никогда не будет ни магистром прав, ни профессором эстетики, но рано или поздно он выступит в качестве писателя, его будут печатать и читать ради новизны, и он отобьет у нас хорошие гонорары…
– Однако, – сказал серьезный человек, – я не вижу причины, почему бы этому славному коту, любимцу нашего мейстера, не выступить на поприще, на котором столь многие выступают, не имея ни выдержки, ни сил. Только об одном следовало бы позаботиться: нужно обстричь его острые когти, и это мы можем сейчас сделать, чтобы наверно знать, что он не будет нас царапать, когда сделается писателем.
Все встали с мест. Эстетик схватил ножницы. Легко представить себе мое состояние. Я решил защищаться как лев против того насилия, которое хотели надо мной совершить, и навеки обезобразить первого, кто ко мне подойдет. Я приготовился выскочить, как только откроют корзинку.
В эту минуту вошел мейстер Абрагам и совершенно рассеял мой страх, доходивший уже до крайних пределов. Он открыл корзинку, я одним прыжком выскочил вон и, дико пронесшись мимо мейстера, забился под печку.
– Что с ним случилось? – воскликнул мейстер, подозрительно глядя на гостей, которые стояли в смущении и ничего не отвечали, стыдясь своего злого умысла.
Как ни ужасно было мое положение в этой тюрьме, однако я нашел внутреннее удовлетворение в том, что говорил профессор о моей смелой карьере; радовала меня и его ясно выраженная зависть. Я уже чувствовал на голове докторскую шапочку, уже видел себя на кафедре. И разве мои лекции не будут посещаться усердной любознательной молодежью? Неужели некий юноша с мягкими нравами мог бы обидеться, если бы профессор попросил не водить в коллегию собак? Не все пудели так приветливы, как мой Понто; охотничьим собакам с длинными висячими ушами положительно нельзя доверять: они проделывают очень неблаговидные вещи с образованнейшими представителями нашей породы и вынуждают их к непристойным проявлениям гнева, как-то: фырканью, царапанью, кусанью и т. д.
Как прискорбно было бы…
(М. л.) …осталась одна только краснощекая придворная дама, которую Крейслер видел у Бенцон.
– Пожалуйста, Нанетта, – сказала принцесса, – будьте так добры, посмотрите сами, чтобы снесли гвоздики в мой павильон. Слуги так нерадивы! Они могут все перезабыть. Дама вскочила, очень церемонно присела, но потом вылетела из комнаты, как птица, выпущенная из клетки.
Принцесса обратилась к Крейслеру.
– Я ничего не могу сделать, – сказала она, – когда я не наедине с учителем, представляющим собой духовного отца, которому можно без страха доверить все свои грехи. Вообще вы найдете стеснительным наш строгий этикет, требующий, чтобы я вечно была окружена и оберегаема придворными дамами, как какая-то испанская королева. По крайней мере здесь, в Зигхартсгофе, можно пользоваться свободой. Если бы князь был во дворце, я бы не смела отправить Нанетту, которая сама настолько же скучает на наших уроках музыки, насколько она меня стесняет. Начнем опять сначала. Теперь пойдет гораздо лучше.
Крейслер, отличавшийся необыкновенным терпением во время уроков, начал снова ту вещь, которую разучивала принцесса, но как ни старалась Гедвига, и как ни помогал ей Крейслер, она путалась и в такте и в мелодии, делала ошибку за ошибкой и наконец, вся раскрасневшись, перестала петь, убежала к окну и стала смотреть в парк. Крейслеру показалось, что она плачет, и он нашел довольно неприятным свой первый урок и все это происшествие. Лучшее, что мог он придумать, это попробовать изгнать посредством музыки того антимузыкального духа, который мешал принцессе. И вот из-под пальцев его полились нежные мелодии. Он играл знакомые, любимые песни, варьируя их контрапунктическими ходами и замысловатыми украшениями, так что наконец сам удивился тому, как прелестно он умел играть на фортепиано, и совершенно забыл принцессу с ее арией и безрассудным поведением.
– Как великолепен Гейерштейн в сиянии вечерней зари, – сказала принцесса, не оборачиваясь.
Крейслер только что перешел в диссонанс, который, конечно, хотел разрешить, и потому не мог восхищаться с принцессой ни Гейерштейном, ни вечерней зарей.
– Есть ли на свете место очаровательнее и шире нашего Зигхартсгофа? – сказала Гедвига, возвысив голос.
Тут уж Крейслер должен был взять заключительный аккорд и подойти к окну, вежливо отвечая на вступительную фразу принцессы.
– Да, действительно, – сказал Крейслер, – действительно, ваше высочество, парк великолепен: особенно нравится мне то, что все деревья зеленого цвета, это восхищает меня во всех деревьях, кустах и травах; каждую весну благодарю я всевышнего за то, что они делаются опять зелеными, а не красными, что было бы дурно во всяком пейзаже и не встречается ни у одного хорошего пейзажиста: ни у Клод Лоррэна, ни у Бергэма, ни даже у Гакерта, который прибавляет немного пудры к своим зеленым лужайкам.
Крейслер хотел было продолжать свою речь, но вдруг увидел в маленьком зеркале, вставленном сбоку окна, смертельно бледное лицо принцессы, до такой степени расстроенное, что он остановился, пораженный ужасом.
Принцесса прервала молчание. Она заговорила, не оборачиваясь и все еще глядя вдаль, и голос ее звучал глубокой печалью.
– Крейслер, – сказала она, – судьбе угодно, чтобы я всегда казалась вам, взбалмошной, даже пустой, и давала повод изощрять на мне ваше язвительное остроумие. Пора объяснить вам, почему ваш вид приводит меня в состояние, похожее на потрясающий припадок сильнейшей лихорадки. Узнайте же все. Откровенное признание облегчит мою душу и даст мне возможность переносить ваш вид и ваше присутствие. Когда я встретила вас в первый раз в парке, то вы и все ваше поведение навели на меня ужас, причины которого я сама не могла понять. Но это было воспоминание детства, которое вдруг проснулось во мне со всей силой и ясно предстало потом в одном странном сне. При нашем дворе был художник по фамилии Эттлингер, которого князь и княгиня очень ценили за его необыкновенный талант. Вы найдете в галерее прекрасные картины его кисти, везде увидите вы княгиню в том или другом положении участвующею в исторических сценах. Но лучшая картина, возбуждающая удивление всех знатоков, висит в кабинете князя. Это портрет княгини, который художник написал в полном расцвете молодости, хотя и не знал ее в это время; портрет этот до такой степени схож с оригиналом, точно его изображение похищено у зеркала. Леонгард, – так звали художника, – был, вероятно, добрый и кроткий человек. Когда мне было не больше трех лет, я отдавала ему всю любовь, на которую способно было мое детское сердце, и желала, чтобы он никогда со мной не расставался. И он неутомимо со мной играл, рисовал мне картинки и вырезывал разные фигурки. Прошло не больше года, и вдруг он исчез. Женщина, которой поручено было мое первоначальное воспитание, сказала мне со слезами на глазах, что Леонгард умер. Я была неутешна и не могла оставаться в комнате, где играл со мной Леонгард. При всякой возможности я ускользала от своей воспитательницы и бегала по дворцу, крича: «Леонгард!» Мне все казалось, будто это неправда, что он умер, мне думалось, что он спрятался где-нибудь во дворце. Однажды вечером, пользуясь тем, что моя воспитательница куда-то вышла, я побежала искать княгиню. Она должна была сказать мне, где Леонгард, и привести его ко мне. Двери в коридор были открыты; я попала на главную лестницу, поднялась по ней и вошла наудачу в первую открытую комнату. Я стояла перед закрытой дверью и хотела ее толкнуть, думая, что она ведет в покои княгини, как вдруг дверь с шумом распахнулась и из нее выскочил человек в разорванном платье, с растрепанными волосами. Это был Леонгард, который пристально посмотрел на меня страшно сверкавшими глазами. Он был смертельно бледен, худ и почти неузнаваем.



