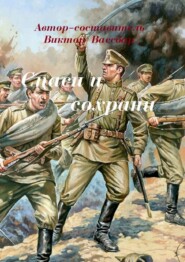
Полная версия:
Спаси и сохрани
– Сочельник, – говорит, – теперь, лучше бы завтра. Сегодня по земле всякая нечисть скитается; бывает и на чёрта наткнёшься. Ещё ничего если чёрт наш, – русский, а как немецкий чёрт попадётся? Я на него заговора не знаю.
– Ладно, – ответил Андреев. – Мы и немецкого под себя подомнём.
– Не подомнёшь, – ответил Янус. – Немец хитёр, а немецкий чёрт ещё хитрее. Они у сатаны первыми чертями считаются. Газ, думаешь, кто немцам придумал? ихние черти из ада пробу дали.
– То-то ополоумел человек. Однако, ничего, поползли мы к самой ихней проволоке, в ложбинку. Там у них лаз был, ихние разведчики оттуда к нам в гости ходили. И такой у нас план был: залечь порознь на самом лазу, но так, чтобы друг другу помощь можно было подать.
Залегли. Зарылся я в снег, только чувствую, холодно ногам, самой подошве. Посмотрел – подметок, как ни бывало! Точно их ножом кто срезал!
Вот, думаю, оказия! Придётся в одних портянках ночь прогулять, хорошо ещё, что тёплые были. И втемяшись мне в голову, со слов Януса, что бесовы это проделки: «Крепкие сапоги были, и как ножом!»
Перекрестился я, «Да воскреснет», – прочёл, лежу. У немцев тихо, впереди проволока чуть видна в темноте. Януса и Андреева не слышно, схоронились
Долго-ли, коротко-ли я так лежал – не помню, только вижу, будто с немецкой стороны белый бугорок на меня двигается. Ползёт и ползёт. Затаился я, а тот прямо на меня.
«Ладно, – думаю, – ползи». – И о чёрте забыл.
А тот ползёт и ползёт, слышу, дышит с хрипотцой, устал, значит.
Только он до меня дополз, я хвать его за шиворот. Схватил и обомлел, смотрю Янус! Как это так вдруг с немецкой-то стороны?
– Янус, – шепчу, – ты?
– Я, говорит. – А это ты, Пахомов?
– Али не видишь?
– Перекрестись, коли ты!
Перекрестился я, и Янус перекрестился. Смотрим друг на друга, как дураки.
– Как, – спрашиваю, – ты к немцам-то попал?
– И сам, – отвечает, понять не могу. Страшно стало одному, пополз к тебе, а угодил прямо под немецкую проволоку. Не иначе, как чёрт крутит. Под самой проволокой уже опомнился.
«Не ладно, – думаю. – Совсем сдурел парень. – И самому как-то жутко стало, подмётки мои на ум пришли. Что за притча в самом деле? Этаким манером вместо языка сам в плен попадёшься».
– Гайда, – говорю, – к Андрееву. Вместе будем лежать.
Поползли к Андрееву, вот и лёжка его, снег примят, бугорок насыпан, а самого Андреева нет!
Что за притча?
А немецкие окопы – вон они! И тишина там, прямо зловещая. Точно притаились там, нас ждут.
Янус даже дрожать стал.
– Андреева, – шепчет, – чёрт схватил. Вернёмся в наши окопы подобру-поздорову, а то и нам тоже будет!
Тут меня зло взяло. Как это так, чтобы русский солдат немецкого чёрта испугался? Сам погибай, а товарища выручай.
– Нет, – говорю, – не бывать этому! Поползём искать Андреева.
А след от лёжки прямо под немецкую проволоку ведёт. Что за диво? Янус туда лазил, и Андреев туда же. Не миновать и нам!
Полезли. Янус сзади, шепотком по-своему молитву читает, и у меня сердце здо́рово постукивает. Лаз нашли: точно нарочно для нас приготовлен.
А за окопом немецким тихо, как в могиле. И начинаю я носом чуять – пахнет спелыми яблоками. Точно в саду в августе на знойном солнышке. Яблоки и яблоки. Мне даже представилось, как они на ветках висят, боками краснеют, наливаются соком.
Ах ты, дьявольщина немецкая, что придумала! Зимой, в сочельник, яблоками дразнить!
Рассердился я. Стой, когда так! Лезу дальше, а в ушах, слышу, звон начинается. Как колокольчики звенят, и чудится, что по снегу красные и зелёные огоньки прыгают.
Вот оно, наваждение! Так и думал, сейчас самого беса увижу, как он среди этих огней по снегу катается, нас обхаживает.
Однако дополз до бойницы, глянул в неё – пусто! Ах, чтоб тебя! А яблоками пахнет всё сильнее да сильнее, слеза из глаз пошла.
Толкнул я Януса: «Гайда на бруствер!»
Всползли. Высунул я голову осторожно за гребень, глянул вправо-влево – пуста траншея, ни единого немца нет!
Этого уж я никак не знал. Вчера ещё перед сумерками палили в нас отсюда, и пулемёты частили, а теперь никого!
«Неладно, —думаю. – Тут или хитрость немецкая, или бес нам глаза отводит. Вот спустишься вниз, а немцы тут как тут из-под земли…»
А голова совсем кружиться стала, и слышно, как будто стонет кто-то, только тихо, там внизу.
– Не Андреев ли?
Обожгла меня эта мысль, точно калёным железом. Может быть, его немцы прирезали? Толкнул я опять Януса, поползли мы по валу в ту сторону, где стонало. Проползли этак шагов сотню, как будто под нами стонет. Глянул я вниз, лежит на дне Андреев, руки раскинуты, папаха с головы свалилась…
Тут меня и осенило: «Газы!»
Вот какую проклятую ловушку немцы подстроили: напустили в окоп газу, а сами ушли. Пусть, думают, русским рождественский подарочек достанется – пустая траншея. Займут её – все полягут. А газ в ямах по три дня держится! Известное дело, что немцев в траншеях и быть не могло.
– Янус, – говорю, – в окопе газ. Как у тебя голова?
– Кружится, – отвечает, – и слеза бежит.
– Надо Андреева вытащить!
– Как не надо? Известно, надо вытащить.
– Ну, – говорю, – крестись да живо.
Обкрестились мы, – бух в окоп. Сразу нас дьявольским газом охватило. Стали у меня ноги подкашиваться, в висках как молотом стучит, да и Андреев тяжёл был. Насилу вытащили вдвоём, и как вытащили, так на валу и растянулись.
Сил больше не стало, а глотку нам обручем сдавило. Насилу отдышались. Андреев пластом лежит и уже не стонет.
Велел я Янусу его дальше от окопа оттаскивать через лаз, а сам по валу дальше пошёл посмотреть, нет ли какой ещё немецкой затеи? И как встал на ноги – сразу легче голове стало, газ-то только внизу был.
Ладно. Прошёл я ещё шагов сотню, смотрю, немецкая записка на шесте висит, а у шеста бутылка стоит. Я записку собрал, в карман сунул. Только к бутылке нагнулся, гляжу, от бутылки проволока идёт, привязана за горлышко.
Вот, – думаю, – что! Ты немец хитёр, а я тебя хитрее. Дёрни как за эту проволоку, сигнал будет, или ещё что. А мы вот как сделаем: были у меня с собою ножницы, для проволоки захвачены, отрезал я несколько кусков, скрепил между собою, один конец осторожно к бутылке прикрепил, а другой за вал перетянул. Ну, на, – думаю, – если теперь дёрнуть, что тогда?
Дёрнул. Земля подо мною заходила. Осветило кругом, как ахнет взрыв, сразу оглох на оба уха: фугас взорвался. Вскочил я на ноги, бегом к Янусу с Андреевым; тот уже Андреева далеко от проволоки оттащить успел.
И что тут вышло: настоящая там ёлка! С немецкой стороны ракеты полетели, синие, красные, зелёные, артиллерия ихняя забухала по своему же брошенному окопу, и наша в него же. Из ружей стали палить – светопреставление настоящее, а мы как раз посерёдке!
– Убили? – не выдержал кто-то из слушателей.
– Ещё бы! – невозмутимо ответил унтер, – разве не видишь? Второй год в покойниках хожу!
Раскатистый смех покрыл его слова; когда солдаты поуспокоились, унтер продолжил:
– И убили бы, очень просто, если бы мы в вороне не схоронились. До утра пролежали, пока стрельба не стихла; Андреев всё себя не приходил. Так без чувств и приволокли в наши окопы.
Явился я к ротному, доложил всё как есть, записку представил, а в ней написано:
«Русские, мы уходим и оставляем вам наш рождественский подарок – наши окопы».
Ну не хитрецы ли? Беса перехитрить хотели, да не удалось.
А тут и опять стрельба поднялась: пошли немцы в атаку на свою же пустую траншею, думали, что там наши отравленные лежат. И переколотила же их тогда наша артиллерия!
А доложи ты, что окопы пусты, да займи их наши – беда бы была, сколько бы наших потравилось, сколько бы немцы перебили. Каиново племя!
– Ну, а что с Андреевым? – спросил кто-то.
– Андреева в тыл отправили, а после на поправку домой. Кровью долго харкал. Вот они газы-то, что делают!
А что, братцы, думаете? Нам, ведь, в пользу пошло, что мы беса-то боялись, осторожны стали очень, потому и не влопались и своих не подвели. И подмётки не даром отлетели, всё одно к одному очень хорошо вышло. Сапоги мне ротный новые выдал и к Георгию представил.
Значит, и немецкого беса бояться не следует, смотри только в оба. Не даром говорится: «На всякого мудреца довольно простоты!» так-то, братцы!
И унтер стал свёртывать толстую «цыгарку».
Ив. Митропольский. 25 декабря 1916 год.
Сила духа
Помимо военных доблестей и мощи, свойственных по натуре нашему солдату, помимо глубокой, одухотворяющей силы, которую придаёт армии ощущаемое здесь тесное единение вождей с серыми героями, помимо сознания необходимости неизбежности конечной победы, которым проникнуты все, – есть здесь, в армии, одна особая мощная сила, идущая к каждому солдату изнутри страны.
Серенький обыватель где-нибудь в Елизаветграде, Константинограде, или в Петрограде и Москве, посылая охотно, радостно или так, по инерции, свои подарки и пожертвования солдатикам на войну, наверное и не подозревает того, что, именно, он делает. Для него это иной раз пустяк. Рубашка… кисет с табаком… бумага и карандаш… сладости. Для солдата это иногда колоссальная ценность. Но не в материальной ценности и не в одной только материальной помощи тут дело. Тут важна сила внутренняя, духовная. Солдат чувствует в этой мелочи, что он не покинут, не оторван, не одинок. Он близок всей России и вся Россия с ним, расстояние как бы исчезает.
Вот только что раздали вернувшиеся на позицию офицеры привезённые подарки. Сколько умиления, восторга, радости! Одному солдатику досталась рубашка с вышивкой: «От гимназистки Шуры – из Полтавы», а в руках записочка, полная прелестных слов. Солдатик обезумел от восторга, прыгает, хвастается. Другой получил кисет, табак и трубку. Третий – пирожное и кисленькую карамель. Четвёртый – фуфайку тоже с вышивкой.
И ощущают все близость этих добрых, помнящих, любящих, молящихся за них сердец. Эта серая масса идущих в бой героев чувствует за собою всю многомиллионную великую Россию.
Каждая безделушка, получаемая солдатами, действует, как электрический ток. Незримыми волнами несётся энтузиазм изнутри страны. Всякая, даже слабая вспышка, вырвавшаяся из глубины России, здесь, в армии, отдаётся пламенным воодушевлением. Рождается великая сила духа – та сила, которая двигает на изумительные подвиги, на бессмертную доблесть и на победы.
Пусть Германия, Австрия и все наши враги придумывают, какие угодно «адские» орудия! Но им никогда не сломить эту великую силу духа, отваги, храбрости и выносливости, которую имеют только русские солдаты.
Вольноопределяющийся Новицкий. 9 февраля 1916 год.
Глава вторая
(Реальные истории)
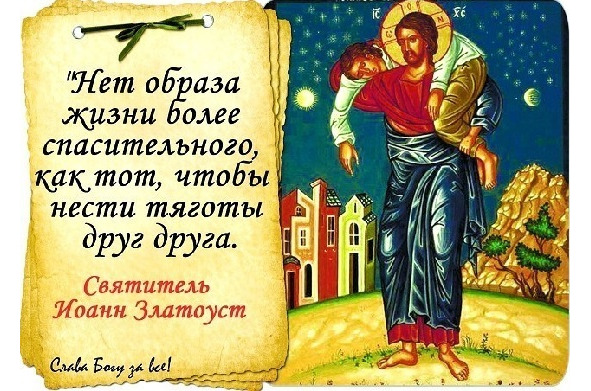
На Пасхе
Весна установилась ранняя и тёплая, а на Страстной и дороги просохли. Уголок наш был тихий, нечего зря говорить, не особенно донимали австрийцы. Обжились мы, можно сказать, хорошо, – хоть не чисто в халупах и тесно, да и то понять надо – не дома находимся. Три дня в окопах, да три дня в деревне. Придёшь в деревню – первым делом отоспишься, амуницию приладишь, письма напишешь, а то выйдешь к халупе на солнышко. А дни-то весенние тёплые да солнечные. Жаворонки в поле напевают, того гляди трава в рост двинется, со дня на день ждёшь – сады зацветут. Вдаль глянешь – поле тянется бурое, весеннее и течёт над ним пар, синий дымок знойный, а ещё дальше облака белые грядой; только как вглядишься хорошенько, не облака это, а горы высокие, белые – Карпаты. И видно: тянутся к горам гряды перевалов, отрогов гор. Вспыхнет дымок, белый клуб и уж потом донесётся выстрел, раскатится по полю в знойном текучем воздухе синем. А налево глянешь – Днестр течёт чёрный, половодный, кое-где белые крылья на горе, не успел растаять снег. Расстелешь шинель на земле, да так и лежишь – отлёживаешься, дышишь весной ранней, глядишь на горы, на село русинское. Пройдёт дивчина до стодола, – окликаешь:
– Зачекай, паночка, зачекай, поразмовляем трохи…
Остановится, глянет:
– Та чому нi?
А сама смеётся лукавым глазом, прислонит ладони к глазам, на солнце глянет. Высоко ещё солнце. И побежит до стодола, обронит:
– Весняно…
Выйдет русин-господарь из халупы, на завалинку сядет, тютюну завернёт, закручинится.
А день-то тянется и тянется. Не на убыль – на прибыль идёт. Светло, тихо, солнечно и на душе светло. Окликнешь пана:
– Чего, пан, закручинился?
– Э, хлопська доля! – и рукой махнёт. И глядит на гору, на полосы бурые. Думу думает пан-господарь: запашку бы делать надо, сеять пора. Да как тут сеять и чем? Как утекали австрийские войска, всё забрали – жито и семена, обсеяться нечем. А что сумели сховать, – съели до весны. Глянет на полосы, вздохнёт тяжко и скажет:
– Як будемо?.. Або жити, або вмерти…
…
Перед Пасхой куличи пекли, яйца красили. Заботы сколько хочешь. В халупах дым, суетня. Всё надо поспеть. За работой и день незаметно прошёл.
А с вечера, ещё засветло, понесли куличи к роще. Туда ещё днём команды была отряжена амвон строить. На поляне среди рощи сделали возвышение, срубили из деревьев настил, дерном обложили, ветками ельника. А по четырём углам амвона вкопали молодые ёлки, перед престолом сплели арку из молодых еловых ветвей, полукругом, как царские врата.
Вечером при лёгком морозце началась служба. Засветили свечи на амвоне перед ликом Нерукотворного Спаса. На четырёх углах амвона в ветвях молодых ёлок стояли образа: Матери Божьей Одигитрии, Всех скорбящих радости, Георгия Победоносца и Николая Мурликийского чудотворца. И все шли к ним и ставили свечи восковые, приклеивали к веткам пахучим хвойным, истово клали поклоны. И от этого горел звёздами, искрился тысячами огней молодой хвойник пахучий и весь амвон залился светом пасхальным, радостным.
На поляне, лицом к амвону, четырёхугольником стояли войска с восковыми мерцающими свечками и ещё дальше, между ельника, в новых хустках – газдыни и господари – мешканцы.
И стояла тишина ровная, недремлющая, весенняя, и только певучий голос священника да хор из солдат разносился над рощей.
– Христос Воскресе! – сдержанным радостным гулом отвечали тысячи голосов. И сквозь этот гул доносился грозный гул войны – недалёкие редкие пушечные выстрелы. Раскатился гул по низам, по взгорьям, затеряется где-то далеко-далеко в перевалах отрогов. И через четверть часа снова ударит сторожевая пушка другой батареи, больше для того, чтобы показать, что все находятся на местах, не спят.
…
Пасха выдалась на редкость тёплая и солнечная. Оркестр полковой играл в деревне, и все жители сошлись хоть на день да забыть кручину. Сначала солдаты один с другим, а потом и дивчины пошли польку танцевать, хустками размахивать, притопывать каблуками.
А на другой день австрийцы стрельбу открыли по селу. Снаряды недолёт делали, рвались пред деревней у озера. Дело виданое – стрельба, пошли солдаты за село к озеру. Несколько снарядов попало в озеро. И видно было: упадёт снаряд, взметнёт столб воды и песку, оглушит рыбу и поплывёт она вверх пузом по озеру, блестя серебристой чешуёй.
Собралось несколько человек, нашли лодки, поехали вылавливать рыбу.
– Ай, да австрийцы, молодчаги! Ради праздничка рыбкой угостить захотели, го-го-го! – заслышался смех.
– Ещё, ещё разочек, чтобы для всех хватило! Ахни-ка, приноровься!
И, словно угадывая наше желание, снова раздался гул и послышался воющий свист снаряда.
– Так его! Раз! Убей да не всех сразу, – смеялись у озера.
– Го-го-го, попал пальцем в небо!
И снова выбросило столб воды. И ещё больше поплыло поверху озера серебристой глушенный рыбы. Вылавливали её наскоро сделанными из рубах сачками и бросали на дно лодок. На мелководье, у берега, засучив штаны, ходили ребятишки, стараясь поймать руками выныривавшую около них рыбу.
– Тримай, тримай до кишеня.
А солнце уже клонилось к вечеру, и золотой диск его окрашивал багряным светом озеро.
…
Ночь ещё свежая. Прохватывает морозец. Звёзды высыпали, дрожат синими огнями. Тихо над полем. Но тишина острожная: будто затаился, притих большой великан, не дышит. Но чувствуется, что ждёт он, ловит осторожный гул, к чему-то готовится. Словно тяжёлый вздох тысячи людей, в молчании ночи раздастся гул над полями и снова наступит тревожная тишина. Булькает вода в потоке с камня на камень, ближе к Днестру.
От того, что весна наступила, зелёным туманом окутала землю, – не спится. За халупами раздольней. Где-то звенит девичий смех, шутка чья-то слышится, но людей не видно, темно. За околицей раздаётся песня. И по голосу слышно: поёт Микола Веретюк, украинец. Весна разбудила в нём грусть тихую по Дунаю-реке, по слободе родной, где он с мальчишками вместе бегал, где подрос и откуда взят в ряды. По Галь-чаровниц в серебряном монисто грустит голос, по ветлам раскидистым, под которыми видел последний раз Галю, по родному тын-частоколу…
«Тихий Дунаю, зелёный гаю,Быстро текучий, в хвилю ревучий,Вас я благаю, грудь облегчите,Висть принесите з ридного краю…»Призатих девичий смех, шутки смолкли. Только один голос, как серебряная струна, звенит о прошлом. И слушает ночь эту чарующую песню с чутким вздохом невидимых, неспящих в осторожном ожидании людей. и плывёт этот вздох над отрогами Карпат, над увалами, вдоль чёрной ленты Днестра.
Тихой тоской, грустью весенней звучат последние слова. И замирает где-то далеко-далеко в поле за теменью:
«Висть принесите з ридного краю…»А ночь-то, ночь какая! Рассыпались миллионы звёзд синих, огней ночных.
Паникадила заревые зажглись, словно от ветра, колеблются, качаются огоньки. И над землёй качаются огоньки на взгорье, за туманом дымчатым: вспыхнут и потухнут, и в другом месте поплывут. И уже спустя минуту, словно тяжёлый воз с камнями, докатится гром выстрела…
Мих. Артамонов. 10 апреля 1916 год.
Белые привидения
На карте всё это обстоит несложно.
Вправо от перевала узкая извилистая линия, означающая просёлочную дорогу. Она минует, капризно извиваясь, крутые подъёмы и спуски, отмеченные разными цифрами высот, далее разветвляется на две, охватывающие густо заштрихованный кружок, на котором стоит «730». Южный склон этого кружка более бледный – пологий. У подошвы начинаются обильные кудряшки, означающие местность, покрытую лесом. Под этими кудряшками направление и толщина штришков уже не так заметна, но в расстоянии полуверсты, по масштабу, ясно читается цифра «420».
В общем, от места стоянки до высот, отмеченных этими пунктами, версты три – три с половиной. Приблизительно около часа ходьбы.
Было около шести часов вечера, когда затих артиллерийский огонь противника, прикрывавший отступление пехоты, и офицеры, Александр Степанович и Сергей Николаевич, повели свои роты.
Задача состояла в том, чтобы этими двумя ротами занять высоту «730» и выслать на вершину «420» заставу.
Александр Степанович, как старший в чине, и потому на походе командовавший всем отрядом, с третьей ротой шёл впереди.
В четверть часа дошли до перевала и стали взбираться на хребет, по которому дорога поворачивала вправо.
Сергей Николаевич приостановился, чтобы взять большой интервал. Старый поручик стал пропускать свою роту по взводам, оставляя между ними значительные промежутки. Кромешная тьма не могла достаточно охранить от пристрелявшейся по перевалу артиллерии, и идти небольшими частями было мерою далеко не лишнею.
Где-то сзади, за четверть версты, продвигалась за нею другая, но, шли ли она, или ещё оставалась под перевалом, или сразу, быть может, пошла не туда, – этого теперь уже нельзя было бы сказать.
Ни звука не раздавалось кругом, ни слова, ни лязга винтовки, ни звякания неприлаженного котелка, ни кашля, ни вздоха, ни смеха.
И только совсем вблизи чавканье сочной грязи под напором неутомимого сапога оттеняло гробовую тишину обстановки.
Александр Степанович пропустил роту мимо себя, затем снова обогнал её и пошёл впереди, впираясь взором в темноту, словно надеясь разглядеть в ней что-то, но что, – он не мог бы сказать. В этом жутком слиянии тьмы с тишиной, отличающем ночные движения, время идёт мучительно медленно. Его не проверишь пространством, так как ничего не видно вокруг.
Александру Степановичу казалось, что давно бы пора уже дойти до придорожного креста, отмеченного на карте приблизительно в середине пути, но креста не было… И кто поручится, что он идёт теперь по дороге, а не где-нибудь в стороне от неё, где та же вязкая грязь – единственный признак одолеваемой почвы.
Не было только сомнения в том, что, миновав опасный перевал и сделав ещё два подъёма, теперь рота совершала довольно крутой спуск и была, таким образом, в какой-то сравнительно безопасной лощине.
– Стой! – полушёпотом сказал ближним солдатам Александр Степанович.
Рота остановилась от этого шёпота, словно по громкой команде, и так же беззвучно, как шла.
Выслали троих дозорных поискать креста.
Они вернулись минут через десять и доложили, что креста не видать.
Ориентироваться всё равно было не по чему, и, подумав немного, Александр Степанович решил двинуться дальше. Не прошли сотни шагов, как справа в стороне какой-то тёмный силуэт обратил на себя его внимание. Он подошёл поближе и с радостью увидел каменный столб, на верхушке которого был укреплён небольшой металлический крест.
– Вот оно что! – подумал он.
Теперь не было сомнения, что рота была на верном пути, и Александр Степанович бодрее зашагал вперёд. Минут через десять стали круто подниматься вверх. Ещё через десять минут достигли хребта, окаймлённого редким кустарником по противоположному склону.
Незаметно, без шума подошла и четвёртая рота. Сергей Николаевич, меланхолически размахивая своей неразлучной спутницей – плёткой, подошёл к товарищу.
– На месте? – тихо спросил Александр Степанович.
– Очевидно! – равнодушно ответил подпоручик.
Действительно, хотя вокруг не было никаких неопровержимых доказательств тому, что они находились на указанной им высоте «730», но никто не мог бы выставить и опровергающих соображений против такого утверждения.
Справа, пробираясь среди густых, тёмных, но обрывчатых туч, выплывал, словно ныряя среди них, серп прибывающей луны. При его неустойчивом свете прояснились тёмные дали горизонта. Впереди, внизу, уходя в даль, блеснули нетронутые передвижением человека обширные снежные поляны. Кое-где чёрными пятнами обозначались на них мелкие участки кустарника, и вилась змеевидная лента заросшего ивняком оврага. Далее совсем туманно обозначалась ломаная линия горного рельефа. Справа и слева, закрывая горизонт, поднимались лесистые скаты.
Солдаты уже расположились на новой вершине, как дома. Там и здесь хрустнули сырые ветви, там и здесь вспыхнули сучья, наломанные для костра.
Александр Степанович поспешил прекратить опасные попытки развести огонь, могший выдать расположение рот неприятелю.
– Что за народ, прости Господи! – волновался поручик. – Так головой и выдаёт себя. Черти полосатые! Чего смотришь? – набросился он на взводного Кобзаренко, с полнейшим равнодушием поглядывавшего на то, как ротный подошвой тушил разгоравшиеся ветви.
– Та что же, ваше благородие, – так же спокойно ответил унтер из полтавских хохлов, – вин то же само родить!
И он указал в пространство перед собою.
Александр Степанович невольно взглянул по направлению руки Кобзенко и, действительно, вдали, в тумане разглядел то вспыхивавший, то погасавший огонёк.
Огонёк появлялся то в одном месте, то в другом, то иногда вспыхивал в двух-трёх местах сразу.
Были ли это вспышки отдалённых костров, как полагал взводный, или иное что, – не было сомнения, что там впереди, на расстоянии, которое сейчас ещё было трудно определить, давала знать о себе какая-то жизнь и, конечно, жизнь эту делал австриец.
Окопы неприятеля, или какие-нибудь отдельные его партии, беспечно блуждающие в неустанно шевелящемся пространстве между двумя враждебными линиями окопов.
Вернее – окопы. Разведчики, караулы, секреты не зажгли бы огней. Кобзаренко прав. Александру Степановичу показалось, что он слышит и какие-то звуки, какой-то отрывистый лязг, но такой глухой, неопределённый, что поручик успокоился на том, что это плод его воображения.
Солдаты, не спеша, стали окапываться. Сергей Николаевич прошёл по хребту, обозначил линию.
– Ну, давай дом строить! – прозвучал в темноте сдержанный голос, по которому Александр Степанович сразу узнал своего любимца, отделённого второго взвода, Вторых, и обернулся к нему. Всегда спокойный, шутливый и насмешливый, но, преимущественно, над самим собою, солдат из «стариков» – Вторых, опустившись на колени, ковырял короткой лопаткой оттаявшую землю, намечая очертания своего будущего «дома» и отбрасывая в сторону противника соскребываемую землю.



