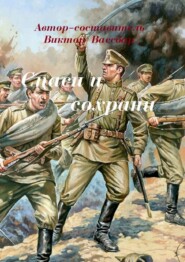
Полная версия:
Спаси и сохрани
Неохотно и стыдливо хорошенькая горничная несла ребёнка в комнаты…
– Куда его, барин, прикажете?
– Да я не знаю… Погодите… – Пока в гостиную уже, что ли. Гость ведь тоже…
И засуетился, захлопотал… Побежал в свой кабинет, в котором Агния Сергеевна уже сидела на оттоманке и, потирая тонкою рукою лоб, смотрела в пол усталыми заплаканными глазами.
– Тебе лучше, нет?.. – заговорил Аполлон Борисович. – Я побежал было в аптеку, да… Представь себе – нам подкинули ребёнка!..
– Этого ещё не доставало!.. – глухо вымолвила Агния Сергеевна.
– Но ты не беспокойся… Завтра отвезут его в приют… Я утром же скажу по телефону…
Агния Сергеевна сидела неподвижно всё в том же положении и молчала.
– Тебе раздеться нужно… – посоветовал ей муж. – Иди, разденься да приляг… Подождёт твой патронат.
– Позвони Торскому, что я сегодня не приеду… – сказала Агния Сергеевна и медленной, усталою походкой пошла к себе.
III. Оставшись наедине с собой в кабинете, Аполлон Борисович долго стоял, опершись одной рукой о край письменного стола, собираясь о чём-то подумать, что-то сделать, но память захлопнулась для мысли и для дел, и он с досадой проворчал, махнув рукою:
– А-а, как всё это глупо, безобразно!.. – и по собственному адресу негодующе бросил: – Образованный, интеллигентный человек!..
И вспомнил о проекте, о визите председателя, о будущем народном доме, для которого всё ещё не мог найти определённого, законченного стиля.
Из гостиной донёсся резкий писк подкидыша.
– Вот ещё тоже ирония судьбы… – с досадой буркнул он и направился в гостиную.
Около ребёнка хлопотала горничная и пожилая, бледнолицая кухарка.
– Как же не кричать ему, мокрёхонек лежит!.. – говорила она с упрёком в голосе. – Ишь, глядите-ка, парнишка… Да сытенький какой!..
Из одеяла выпала записка. Горничная наклонилась, а Аполлон Борисович взял и прочитал полуграмотные слова:
– Не покиньте, люди бодрые. Дитёнок не виноват. Крещён. Зовут Кирилой.
– Ну, не реви… Небойсь есть хошь! – умело купоря ребёнка говорила кухарка. – Сейчас возьму тебя к себе, а то ты тут не дашь покоя. – И чтобы удостоверить свой опыт в няньченьи, добавила, не обращаясь ни к кому. – Пятерых сама родила, да только ни одному, Бог веку не дал… Либо оспа, либо корь, либо другая хворь какая придёт и унесёт в могилу.
Из спальни беззвучно и медленно шла Агния Сергеевна. Аполлон Борисович, встретив её на средине комнаты, с улыбкой сказал:
– Мальчонка!.. Вот и паспорт, – он подал записку.
Она небрежно прочитала, свернула бумажку в трубочку и подошла к кухарке, которая перепеленывая толстенькие, дрыгающие ножки мальчика, ворчала:
– Не лягайся! Не лягайся! Вот я те как скручу, дак будешь знать, как по чужим людям без спросу с эких пор шататься!.. Ишь, разревелся, прости Бог!..
Агния Сергеевна внимательно взглянула на сморщенное криком личико ребёнка и, сдвинув брови, попросила стряпку:
– Да ты утешь его!.. Болит у него что-то, что ли?..
– Какой болит!.. Как сбитый весь… Крестьянская кровь то, надо быть… Ишь, одеялко-то крестьянское… – она проворно подхватила ребёнка на руки и начала трясти.
Аполлон Борисович с любопытством заглянул в лицо жены и полупримиренно засмеялся ей:
– Не правда ли, забавная картина!..
Но Агния Сергеевна смотрела на ребёнка новыми, никогда невиданными Аполлоном Борисовичем глазами, в которых вспыхнули огоньки и любопытства, и жалости, и как будто ласки…
– А ну-ка, Ермиловна, я подержу его…
– На-тко, барыня, возьми!.. Ишь Бог от не нашёл тебя своим, дак хучь чужого подержи…
– Какой тяжёлый!.. – прошептала Агния Сергеевна, расширив ласково заулыбавшиеся глаза. – Сколько же ему времени, как ты думаешь, Ермиловна?..
– Да не сейчасошный… Должно кормленный уже. Ишь, шарит рылом-то…
Ребёнок замолк, прислонился к упругому девичьему бюсту женщины и тыкался беззубым ртом в тонкий батист её капота…
– Он хочет есть! – вдруг зазвенела Агния Сергеевна и, засмеявшись точно от щекотки, протянула ребёнка Ермиловне. – Возьми его, он хочет есть!..
Но когда Ермиловна взяла ребёнка, Агния Сергеевна снова наклонилась над ним, рассматривая его розовое, пухлое личико.
– Вихрастый, кучерявый какой!.. А ну-ка дай, Ермиловна, я ещё подержу его.
Аполлон Борисович с любопытством смотрел на жену, которая, казалось, забыла о его присутствии и о том, что было в кабинете час тому назад. Оживившись и повеселев, она смеялась около подкидыша, качала его на руках, играя с ним, как маленькая девочка куклою…
Затем прижав ребёнка к груди и подняв задорно-смеющееся и торжественно-сияющее лицо на мужа, она вдруг залепетала молодым весёлым голосом:
– А знаешь что, я его возьму себе?
– Ну что за фантазия! – ответил он, но нерешительно, и ласково глядел в её глаза, такие новые, простившие и полные любви к чему-то неизведанному и большому…
– Нет, я возьму его! – решительно и не переставая улыбаться, говорила она и неумело качала ребёнка на руках, смотрела на него и, улыбаясь, повторяла:
– Возьму, совсем возьму!
Ермиловна постояла, поглядела на барыню, хлопнула по бёдрам сухими, крючковатыми руками и наставительно произнесла:
– Возьми-как, да вскорми!.. Это Господь тебе утеху посылает… Возьми, барыня, возьми!
– Ну, что же, если хочешь… Я не имею против ничего, – сказал Аполлон Борисович и тоже для чего-то взял из рук жены и покачал ребёнка. – Добро пожаловать!.. Добро пожаловать, мой сударь! – пошутил он, глядя в узенькие синеватые глаза ребёнка и снова передал его жене.
– Бери! Назовём его Кирилл Аполлоныч!.. – добавил он и, весело осклабившись, пошёл в свой кабинет.
IV. На завтра председатель патроната Торский, низенького роста, шустрый, с крашеными волосами человек, два раза приезжал к Агнии Сергеевне с визитом и оба раза не застал её дома.
Она с утра захлопоталась. Прежде всего по газетным объявлениям ездила, искала няню. Затем покупала ванночку, кроватку, детское бельё.
А когда возник вопрос о том, где поместить ребёнка, Агния Сергеевна озабоченно прошла к мужу и сказала:
– Аполлон! Пока я Кирика устрою в спальне… Там теплее… А тебе пока придётся спать в кабинете… Можно?
Аполлон Борисович пожал плечами.
– Ну, что ж. Я должен быть гостеприимным… Делай, как находишь лучше.
Все следующие дни он посмеивался, с весёлым любопытством выходил из кабинета посмотреть, как три, разных возрастов и положений, женщины купают «незнакомого мужчину» и кипятят для него разбавленное молоко, как затем хлопочут возле него, суетливо бегая по комнатам квартиры.
– Вот, действительно, не было печали!.. – улыбался Аполлон Борисович. – Всех на ноги поставил, как будто он князь сиятельный какой…
Но говорил он это без тени недовольства, напротив, с тайной, неопределённой радостью.
Впрочем, настроение его было приподнято, быть может, потому что эти дни были удачными в работе. Подогретый оживлением в доме, он без труда наметил общие черты проекта, и дело быстро стало двигаться вперёд.
– Скажи, пожалуйста! – сказал он как-то Агнии Сергеевне. – Можно подумать, что этот шельмец мальчонка внёс с собой что-то такое, этакое… Тфу! Не сглазить бы!.. Ты слышишь, я суеверным становлюсь.
Вместо ответа Агния Сергеевна озабоченно сообщила ему что-либо о нововведении в доме или о каком-либо забавном происшествии с ребёнком… А однажды сообщила, что она отказалась от работы в патронате и что Торский рассердился.
Аполлон Борисович с интересом следил за поведением жены и в тайне опасался, как бы она не охладела к «игре в материнство», как он думал про себя.
Однажды после целого дня увлёкшей его работы, он вошёл к жене.
У кроватки няни не было. Она была на кухне. Значит, Кирик спит.
Аполлон Борисович уселся поудобнее возле жены, читавшей книгу, и некоторое время молчал, искоса рассматривая её полузатенённый профиль. Глубокой тишиной и вдумчивым покоем веяло с её опущенных ресниц. Аполлон Борисович впервые проникся к ней невольным уважением и покорно ждал, пока она сама заговорит.
Но она как будто не слыхала, что он вошёл и по-прежнему читала страницу за страницей. Он приподнялся и увидал давно прочитанные строки старой книги Льва Толстого.
– Как работа продвигается? – спросила она вдруг, закрывая книгу.
– Хорошо. Скоро окончу…
– А стиль?
– И стиль нашёл… Оригинальный… И представляешь, не без участия «его сиятельства» Кирилла Аполлоныча.
– То есть?
– Очень просто, работая, я не переставал немного философствовать о жизни. И появление этого молодого человека на нашем горизонте весьма мне пригодилось. Признаться, я таки порядком фантазирую на этот раз, мне хочется в стиль народного дома вложить призыв к работе, к бодрой светлой жизни… И это у меня выходит… Да…
– Я вот возвращаюсь к старине… К Толстому потянуло… И тоже что-то странное со мной творится… Как будто я вернулась в прошлое и сызнова учусь… Так много теплоты у этих стариков… И вообще…
Аполлон Борисович улыбнулся:
– А не раскаешься ты, что увлеклась вот этою забавой? – он указал на кроватку.
– Не знаю… – вздохнув, ответила Агния Сергеевна. – Мне просто захотелось взять на себя хоть что-нибудь… А то уж очень пусто стало на душе… Ты думаешь, от радости я что-нибудь, кого-нибудь искала? Притом я как-то вдруг почуяла, что я действительно виновата…
– Ну, полно… Не надо вспоминать!.. – нахмурившись сказал Аполлон Борисович.
– А я думаю наоборот. Мне даже хочется пойти к священнику и всё, всё рассказать ему, покаяться…
– Вот глупости!.. – коротко сказал он и, взяв её руку, тихо ласково погладил и поцеловал.
Помолчали, конфузливо и непривычно приласкав друг друга.
Затем, как бы желая устранить неловкость, он встал, дружески пожал в своих руках её руку и серьёзным бодрым тоном проговорил:
– Поживём, увидим!.. Может быть, ещё и поработаем!.. Ну, конечно, материнствуй, милая, а я пойду кончать проект.
Он улыбнулся ей и бодро зашагал к себе.
Г. Д. Гребенщиков.
Новогодний гость
Шарик, – так звали ротного пса, – всюду следовал за своей ротой. Рота в бой, он с ней, рота на отдых, он, примостившись у походной кухни, терпеливо сидит и ждёт, чтобы пища была готова, а потом, когда солдаты явятся с котелками, он вместе с ними уходил, чтобы дождаться комков каши, дождаться кости.
– Чёрт знает, какая умная собака, – говорили солдаты этой роты, – всех упомнит в лицо, даже прикомандированных и тех знает.
– А это потому, – говорил ротный философ, – что как каждый человек, так, значит, и обчество, а рота – обчество и есть, имеет свой особый запах и знает своих хозяев.
– Ври, ври, Емеля, твоя неделя, ишь выдумал – рота имеет запах. Так, по-твоему, и ротный командир пахнет так же, как и ты, – возразил ему старый солдат из запасных.
– Отчего же ему не пахнуть, как и мы, коли день и ночь с нами? Он-то сам, может быть, того запаху не имеет, но мы его своим запахом и обкуриваем. Сказано тебе ясно, у роты свой запах, потому собака всю роту за хозяина и знает, как другим не пристанет.
Шарик сидел тут же и слушал, помахивая своим пушистым хвостом. Слова ротного философа точно пришлись ему по душе и он посмотрел пристально на философа своими умными глазами, точно желая сказать ему:
– Конечно по запаху, а то куда же вас бритых и не бритых запомнить, – и затем, чтобы подкрепить свою затаённую мысль, обошёл всех присутствующих, начиная с философа, и лизнул каждого куда кого попало.
– Ну, чёрт, куда лезешь в губы целоваться, не баба же, – проговорил молодой солдат, не сделав никакой попытки его отогнать.
Целый день можно было слышать:
– Шарик, сюда, колбасы возьми. Шарик, на же сала, – а завзятый курильщик, который не выпускал изо рта австрийские сигаретки, неизвестно где им доставаемые, как-то, когда рота целый день ничего не ела, вынул из кармана последнюю сигаретку и, протянув собаке, сказал:
– На-те, чёрт лохматый, жри.
Он был крайне удивлён, когда Шарик отвернулся, чихнул, но сигаретки не взял.
– Стесняется, знает, что последняя, – проговорил он и вместо того, чтобы закурить, положил её в карман.
После одной из неудачных разведок, в которых страсть как любил принимать участие Шарик, вернувшиеся участники сообщили, что пропала собака. Были убитые и раненые, но последнее менее тронуло роту, чем пропажа собаки.
Перекрестившись за убиенных, все начали расспрашивать, как пропала собака и что без неё станут делать. Ведь такой второй собаки не найдёшь во всём мире. Несколько человек отважились пойти на розыски. Но собака, как будто канула в воду…
Рота целый месяц была на отдыхе, кормили отлично.
– Вот бы теперь Шарик был, костей сколько даром пропадает, – говорили кругом, а кто-то даже выругался по адресу противника.
– Такие сякие, собаку-то зачем убивать, тоже… храбрецы.
Был канун Нового года. Рота опять была на передовых позициях. Днём ходили брать окопы, но австрийцы так огородили их, что не было никаких сил добраться. Часть роты полегла в этих ограждениях, а другая, окопавшись, ожидала, чтобы пришли на помощь сапёры уничтожать заграждения.
Среди проволочных заграждений остался лежать и легко раненый ротный философ Никаноров. Притворившись днём мёртвым, чтобы избежать расстрела со стороны наблюдавшего за проволочными заграждениями противника, он, когда наступила темнота, начал производить попытки выбраться, но неудачно. Хитрый враг подвесил к проволоке звонки, и чуть дотронешься до неё, сейчас идёт трезвон, а затем и пальба из окопов противника.
Улегшись на землю, Никаноров стал обдумывать своё положение.
– Ишь ты, чёрт, хитрый, в клетку меня запер, да ещё жрать ничего не даёт
Достав из кармана последнюю сигарку и закурив её, он вспомнил давно пропавшего Шарика.
– Эх, был бы Шарик, он бы пронюхал, как выбраться из этой западни, недаром выручал нас не раз в разведке, – думал он и почти в то же время почувствовал, как что-то мокрое дотронулось до его руки.
Первый момент он даже немного испугался, но тут же рассмотрел у своих ног тёмный силуэт собаки и услышал лёгкое взвизгивание. Он крайне обрадовался собаке и от радости даже поцеловал морду Шарика.
– Ну, теперь не один, всё же веселее, – и, обратившись к собаке, он стал ему говорить. – Ну, Шарик, докажи, что ты умён и что не забыл ротный запах. Нюхай кругом хорошо и веди к нашим.
Собака точно поняла смысл его слов, весело завиляла хвостом и начала кружить, ища что-то, а потом, делая крутые повороты, повела его по лабиринту проволоки. Наконец, выйдя из проволочных заграждений, Никаноров внезапно почувствовал сильную боль в ноге и упал, не имея сил двинуться, а собака, покрутившись около него, вдруг пропала в темноте.
– Это неспроста, – решил философ.
Не просидел он на земле и десяти минут, как услышал невдалеке шорох, а затем увидел собаку и человеческую фигуру. Никаноров немного струхнул и чуть было не выругал Шарика словом «предатель», думая, что это он австрийца привёл, но тотчас же заметил свою ошибку, увидя вдруг вынырнувшую около себя из мрака фигуру русского солдата.
– Ох! – сорвался у него вздох облегчения.
– Никаноров, жив? – спросил его молодой голос, в котором он узнал своего приятеля так же любившего Шарика, как и он сам.
– Да, это я.
– Умная бестия этот Шарик и откуда, чёрт мохнатый, взялся. Прибежал, ему даём есть, а он всё лапами скребёт мои штаны, ложится и потом встаёт, выбирается из окопа и чуть ли не зубами тянет куда-то. Ну, думаю, собака неспроста это делает, пойду за собачьей головой, недаром умной её читал даже ты. Прём, прём, и вдруг вижу фигура лежит, хватился на всякий случай за винтовку, но Шарик так начал прыгать, около меня и ласкаться, махая хвостом, что я решил, свой должно быть.
…
Когда молодой солдат принёс Никанорова в окоп, то все диву дались.
– Ну и собака, – говорили кругом.
– Всё ротный запах, – проговорил философ и, помолчав немного, докончил. – Ежели бы его собака не признавала, то ночью не приметила бы меня, не нашла бы роты, и я Новый год встретил бы среди трупов, а не среди вас.
– Оно то верно, – поддакнули все кругом.
С. Маркович. 31 декабря 1915 год.
Сон перед Рождеством
Галечка Самарцева долго не могла уснуть. Сердечко было не спокойно; какое-то жуткое чувство щемило его. А мысль, о чём бы ни подумала Галечка, – всё возвращалась к одному. И это одно было – высокое, смуглое, с здоровым румянцем, с добрыми серыми глазами, широкое в плечах, всегда весёлое и добродушное существо в форме офицера гренадерского полка.
– Что-то он теперь делает в этих холодных окопах… Бедный Юрочка! Один в Святую ночь, так далеко от своего дома и от неё, Гали. Ах, уж эти проклятые немцы…
Горячо молилась Галечка сегодня за всенощной; от души клала поклоны, совсем по-деревенски, – «за наших воинов, о еже усилити силу мужества их, и за приявших раны на поле бранном»…
Всё, что приготавливалось обычно на ёлку, в этом году купили заранее, запаковали и отправили «на позицию», в тот гренадёрский полк, где служил прапорщиком Юрий Таволжаев, – Галечкин жених и любимец всей семьи Самарцевых. Без ёлки Святой вечер прошёл тихим, томительным, тоскливым.
И снится Галечке…
…Большой лес ёлок и сосен уходит стеной, смыкается, расходится и снова сходится, образуя большую поляну. Ярко блестит на ней солнечными пятнами снежный покров, глубокий и ещё не тронутый шагами. Зеленятся ёлки и сосны. На ветвях их плотным слоем повис ослепительно белый снег.
Часть деревьев повалена кругом полянки, не в кучу, а правильными рядами; идут эти ряды вдоль опушки, исчезая в синеве леса. Нет, нет, да и промаячит тут остроконечная каска. Вот мелькнули из-под каски бесцветные глаза и обшарили лес. На минуту колючий взгляд этот встретился с испуганными глазами Гали и сейчас же спрятался.
Вот вышел осторожно из-за засеки дозор, пять человек в белых балахонах, каски тоже закрыты белыми чехлами. Отрывистые, быстрые слова вполголоса. Более громкая команда: «Rechts!». Лязгнули примыкаемые штыки, и дозор исчез из лесу.
Но вдруг тишина нарушилась резким выстрелом. Галя вздрогнула вся. В лесу испуганно вспрыгнул целый ряд касок.
Вдали между деревьев показались проворные, ловкие люди в серых шинелях и папахах. Они цепью скользили на лыжах. Останавливались, вскидывали винтовки, выпускали по очереди пулю за пулей и шли дальше. Впереди, размахивая сверкающей, как зеркало, шашкой, распоряжался и громко командовал какой-то прапорщик. Что-то знакомое в его высокой фигуре; сердце замерло у Галечки, она не может оторвать глаз от этого офицера.
Всё ближе и ближе наши удальцы. Да, это Юрий! Видно, как упали два человека, скрестив на груди руки.
«Боже, Боже, спаси, помилуй раба Твоего Юрия» – шепчет Галя во сне запёкшимися губками. От волнения сердце у неё остановилось.
Гренадёры вскочили и бросились атаку со штыками наперевес.
«Ура» – кричал Юрий, схватываясь рукой за взятый пулемёт.
«Вот молодчина, Юрка, – произносится в грёзах Гали, – и никто и не знает, что он такой храбрый».
Но что это? Он зашатался. Упала на землю шашка и подогнулись колени, прапорщик тихо опустился на руки подбежавших солдат. Из головы бежит струйкой кровь и ярко окрашивает снег пурпуром.
Окружили офицера солдаты, поддерживают голову, и на неё ложатся один за другим обороты бинта.
Около лежащего Юрия остался только его денщик.
Пышный снег был притоптан. Недвижно лежали тела трёх павших героями гренадёр да десятка полтора убитых немцев. Около раненого Юрия хлопотал денщик; наломал веток с мягкой хвоей, устроил из них ложе; придвинул пулемёт, чтобы прапорщику было удобно опереть спину.
– Ваше благородие, давайте, я вас моим полушубком укрою.
– Нет, нет, Верещагин, не надо, – отмахнулся рукой Юрий.
– Дозвольте, ваше благородие, мне-то, ведь, не холодно, могу и побегать кругом. Не замёрзну…
Прапорщик, молча, покачал отрицательно головой. И от боли лицо сморщилось, как и обиженного ребёнка.
Верещагин поглядывал на своего офицера и, наконец, не выдержал, жалко стало: сбросив с себя полушубок, он накрыл им прапорщика. А сам принялся скакать и прыгать кругом, ударяя себя по плечам наотмашь обеими руками.
Крадучись, пробирались к ним меж деревьями две согнутые фигуры в касках. Как у шакалов, горят глаза, и походка с согнутыми коленями, крадущаяся, трусливая, напоминает этих кладбищенских собак.
Всё ближе они. Вот шмыгнули и спрятались за ёлочку, у которой лежал прапорщик и прыгал, размечтавшись, Верещагин. Силится Галечка приподняться, крикнуть, предупредить их, этих двух таких близких, родных ей людей. и не может, нет голоса…
А немец толстый, краснорожий, усы рыжие сосульками от мороза обвисли вниз, глаза, как оловянные плошки, – всё ближе подбирается за спиной Верещагина. Вынырнул, вскочил, поднял штык…
Тут, сделав невероятное усилие воли, Галя громко вскрикнула, и сейчас же проснулась. Долго не могла она прийти в себя от ужаса и пережитого волнения. Грустная она ходила по всему дому, словно е в Святое Рождество, а после похорон. Зато в полдень Галя получила на своё имя телеграмму: «Ранен не опасно, поправляюсь, Москва, седьмой земский госпиталь, целую, жду. Юрий».
Через три дня Галечка сидела около кровати раненого, – уже подпоручика Таволжаева, смотрела на него преданными, влюблёнными глазами. Маленькие пальчики её перебирали то загрубелые руки Юрия, то беленький крестик, что красовался на новой жёлтенькой с чёрным ленточке на его больничном халате.
В десятый раз он принимался рассказывать ей про своё отличие, ранение, про опасность и спасение, но каждый раз поцелуи и радостные слёзы мешали ей слушать, ему говорить.
Вдруг Галя как-то потемнела и задрожала маленькие ручки.
– А Верещагин? Что с ним?
– Верещагин? – удивился Таволжаев, – а ты откуда знаешь? О-о! Это такой молодчина! Когда два мерзавца, немецкие мародёры, подкрались к нам и один уже занёс штык, чтобы приколоть Верещагина, тот изловчился, прыгнул, сшиб его с ног и винтовку вырвал. Потом с этой винтовкой на другого. Хотя этот и успел ранить Верещагина в плечо, да зато мой молодец его насмерть приколол.
После схватился с первым. Всё это, ведь, в мгновение ока. Покатились они по снегу, меня совсем растормошили. Вынул я револьвер, стрелять стал; да рука дрожит – всё мимо. Боюсь и в своего попасть.
Тут как раз подоспел капитан с ротой. Немца скрутили, а нас с Верещагиным на носилки да на перевязочный пункт.
– А с немцем что?
– Его полковой суд, как мародёра, приговорил к повешению.
Галя с уважением смотрела на незнакомое ранее выражение, которое приняло лицо его жениха. Оно стало старше, серьёзнее, преисполнилось сознанием важности своего военного дела и долга.
Но молодая жизнь заявляла и свои права. И через несколько минут снова улыбка играла на её юном лице и глаза горели любовью и счастьем.
К. Озерецкий. 25 декабря 1915 год.
«Подарок» от немцев
– Было это в прошлом году, в самый Рождественский сочельник.
Старый унтер с двумя Георгиями покрутил усы и многозначительно посмотрел на слушателей, заполнивших тесную и тёплую землянку. В землянке горела маленькая керосиновая лампочка с заклеенным газетной бумагой стеклом, и висел серый дым от махорки и человеческих испарений.
– Пахомов сейчас расскажет, – не выдержал томительной паузы кто-то из собравшихся в землянке солдат. – До чего врать мастер!
– Тшш!.. Чего рот раскрыл, коли не спрашивают, – осадили нетерпеливого несколько голосов.
– Да, было это в самый сочельник, – продолжал Пахомов, – я тогда ещё ефрейтором был. Ну, хорошо. Призывает меня ротный, прапорщик Апсюк, убит, царство ему небесное! Так вот, призывает и говорит:
– Ну, Пахомов, штаб требует достать языка, и чтобы непременно. Бери сколько тебе надобно людей и ступай ловить. Крест заработаешь.
– Слушаю, – отвечаю, – ваше благородие. Людей мне много не надо, двоих только возьму: Андреева, он больно здоров, коня за передние ноги подымал, да латыша Януса, он по германскому лопотать умеет, чтобы, при случае, им, то есть неприятелю, голос подать, будто свои.
– Ладно, – говорит. – Как хочешь, так и делай, только чтобы язык был.
– Будет, – отвечаю. – Какой язык попадётся, сказать не могу, а только будет. Дело это, известно, крест на крест: либо серебряный на груди, либо деревянный на могилке, а только, казалось, что будет серебряный.
Ну, рассказал я Андрееву и Янусу. Поужинали мы, хлеба захватили на всякий случай да в самую полночь и шарахнули через окоп в чистое поле.
Все втроём в белых балахонах, как есть покойники с кладбища.
Андреев, тот ничего, ему хоть в будни, хоть в праздник идти на немца – одна цена, а Янус всё вздыхает:

