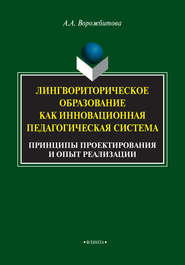
Полная версия:
Лингвориторическое образование как инновационная педагогическая система. Принципы проектирования и опыт реализации
Ориентиром для педагога должны служить определенные в психолого-педагогической науке критерии развития мышления, которые выступают показателями, т. е. существенными признаками, свидетельствующими о достижении того или иного уровня развития мышления обучающихся. Приведем их согласно классификации Н. Н. Поспелова, выделяя курсивом особенно значимые для нас положения:
1. Степень осознанности операций и приемов мыслительной деятельности. Нет сомнений в необходимости специально формировать у учащихся понимание и осознание не только результатов своей деятельности, но и самого процесса этой деятельности как поэтапного формирования сознания (понимания): отдельных факторов, явлений, событий, процессов, а также связей между ними; существа понятий, идей, учений, теорий (закономерностей и законов); механизмов рассуждений, доказательств, суждений, умозаключений, которые приводятся в учебных пособиях и в устном изложении учителей; процесса учения, т. е. методов и приемов учебно-познавательной деятельности, демонстрируемых учителем; механизмов собственного мышления, структуры мыслительных операций; пути мышления, т. е. причин выбора того или иного способа решения учебной задачи.
2. Степень владения операциями и приемами мыслительной деятельности, умения производить рациональные действия по применению их в учебном и внеучебном познавательных процессах.
3. Степень умения осуществлять перенос осознания операций и приемов мышления, а также навыков пользования ими в др. ситуации и на др. предметы. Ученые установили, что для переноса операций и приемов мышления необходимо осознание обобщений и правил рациональной мыслительной деятельности, а также наличие системы теоретических знаний предметов и навыков в решении задач по усвоенным правилам и алгоритмам.
4. Степень сформированности разных видов мышления, а также состояния мышления в процессе перерастания одного вида в другой. Все основные виды мышления – практически-действенное, наглядно-образное и словесно-логическое, которые представляют собой последовательные стадии онтогенетического развития мышления, развиваются в неразрывном единстве.
5. Величина тезауруса, т. е. запаса знаний, их системность, а также появление новых способов усвоения знаний.
6. Состояние и возрастающая динамичность различных качеств ума: самостоятельности, глубины, критичности, гибкости, последовательности, быстроты и т. д.
7. Степень умения творчески решать задачи, ориентироваться в новых условиях, быть оперативным в действиях.
8. Способность учащихся использовать логические суждения и применять их в учебной деятельности [См.: Современный словарь по педагогике, 2001, с. 470–472].
Наиболее важными, ведущими признаются три первых критерия, которые, будучи неразрывно взаимосвязаны, образуют единое целое; от них зависят другие, более частные критерии, которые могут быть использованы в качестве количественной меры какого-либо компонента или мышления в целом.
Помимо трех основных видов мышления (см. четвертый критерий), различаются и такие виды мышления, как теоретическое / практическое (эмпирическое); логическое, аналитическое, дискурсивное / интуитивное; репродуктивное[7] / продуктивное; реалистическое / аутистическое (уход от действительности во внутренние переживания); непроизвольное / произвольное; боковое, или нешаблонное; визуальное / безобразное; синкретичное, пралогическое (Л. Леви-Брюль); дооперациональное (Ж. Пиаже), комплексное (Л. С. Выготский).
Словесно-логическое мышление образует вершину среди трех основных видов мышления; две предыдущие ступени встроены в него, а в совокупности все эти (и другие) виды мышления синтезированы в феномене речемыслительной деятельности. Таким образом, речемыслительная культура выступает как их синергетический продукт и синтез второго порядка, что мы попытались отразить на рис. 2.
В плане возрастной психологии, что особенно важно для концепции непрерывного ЛР образования, особого внимания заслуживают исследования мыслительного и речевого развития детей дошкольного возраста. Стадии развития ребенка от 2 до 7 лет, которая выделена в концепции Ж. Пиаже, соответствует дооперациональное мышление. Л. С. Выготский исследовал комплексное мышление, определяемое как стадия в развитии понятийной системы ребенка, промежуточная между синкретами и истинными понятиями, эмпирические обобщения на основе воспринимаемых отношений между предметами. Согласно ученому, в детском мышлении выделяются пять форм таких комплексов: комплекс ассоциативный, комплекс-коллекция, комплекс цепной, комплекс диффузный, псевдопонятие [Словарь психолога-практика, 2001, с. 388][8].

Рис. 2. Соотношение основных видов мышления в речемыслительной деятельности как базис формирования речемыслительной культуры обучающихся
В рамках нашей концепции предлагается следующее рабочее определение: речевая (речемыслительная) культура есть высокий уровень ЛР компетенции, т. е. оптимальное и этически ответственное совершение субъектом речи языковых операций, текстовых действий и коммуникативной деятельности в рамках речевых событий различных типов с целью эффективной, гармонически диалогизированной коммуникации. Соответственно, коммуникативная культура в узком смысле – высокий уровень владения коммуникативной субкомпетенцией и сознательное применение знаний и умений в области эффективной (целесообразной, воздействующей, гармонизирующей) коммуникации в процессе повседневного общения. Коммуникативная культура в широком смысле равна речемыслительной культуре, т. е. высокому уровню ЛР компетенции в целом, так как текстовая и языковая субкультуры (= высокие уровни компетенции) встраиваются в реальном процессе речевого взаимодействия в коммуникативную по принципу «тройной матрешки».
Все рассмотренные выше понятия, связанные с мышлением в его неразрывном взаимодействии с языком и речью, в конечном счете замыкаются на категории языковой личности. Языковой коллектив как исходное понятие социолингвистического анализа, определяемое на основе наличия социального взаимодействия и единства языковых признаков, интерпретируется в рамках ЛР парадигмы как коллективная языковая личность, носитель набора специфических черт коллективной ассоциативно-вербальной сети, равно как и тезауруса и прагматикона, играющих системообразующую роль в социолингвистическом аспекте. Народ, носитель национального языка, выступает как совокупная языковая личность этносоциума, данная категория фиксирует диалектическое соотношение этнокультурного инварианта и его социополитической вариации. Русская речевая культура как ЛР феномен – это совокупность качественных характеристик речевой деятельности русской совокупной языковой личности, выработанная прежде всего сильными, одаренными, образцовыми языковыми личностями нации. Это и культура речи «рядовой» языковой личности, овладевшей богатыми традициями отечественной речевой культуры и творчески развивающей их.
ЛР ментальность как национально-историческая доминанта самореализации языковой личности (ср. термин «психоглосса», обозначающий некоторую константу языкового сознания носителя языка (Ю. Н. Караулов) и понятие «культурно-исторического типа», включающего в себя различия этнографического характера, руководящего «высшего нравственного начала» и «условий и хода исторического воспитания» (Н. Я. Данилевский) в той или иной степени проявляется на всех уровнях речевой деятельности: 1) уровень речевого акта; 2) уровень речевого поступка как цепи речевых актов, объединенных единой коммуникативной целью; 3) уровень речевого поведения как совокупности речевых поступков (рассматриваемых на уровне обобщения их особенностей, типичных для данной индивидуальности); 4) уровень речевой политики как регулируемой государством стратегии желательного речевого поведения в масштабах совокупной языковой личности этносоциума.
Как только мы обращаемся к теоретико-методологической, понятийной стороне данной феноменологии, термин речевой во всех приведенных контекстах заменяется на лингвориторический. Соответственно по нарастающей выстраивается цепь категорий: ЛР деятельность: ЛР акт, ЛР поступок, ЛР поведение, ЛР взаимодействие, ЛР политика. Две разновидности социальной дифференциации языка, обусловленные разнородностью социальной структуры и многообразием социальных ситуаций [Швейцер, 1990, с. 481], можно представить как «социальную ось абсцисс» и «ситуативную ось ординат», пересекающиеся в эпицентре речевого события и проявляющиеся посредством речевой деятельности языковой личности как общенациональное и индивидуально-специфическое в форме реализации ее ЛР компетенции. В связи с этим социальную дифференциацию языка, осуществляющуюся на всех уровнях его структуры, можно представить не как дифференциацию реализации «языка-системы», а как специфическое осуществление языковых операций представителями тех или иных социальных и возрастных групп в рамках конкретного культурно-исторического периода, социально-политической системы. Специфика выполнения языковых операций всех уровней – фонетико-орфоэпических, лексико-фразеологических, морфемно-словообразовательных, морфолого-синтаксических – выступает как дифференциация лингвистической составляющей интегральной ЛР компетенции носителя языка, проявляющаяся во взаимодействии с дифференциацией ее риторической составляющей (характера текстовых действий и стиля коммуникативной деятельности). ЛР константы социокультурной коммуникации осмысляются при этом как пункты категориальных пересечений антропоцентрической лингвистики, психолингвистики и неориторики (см. рис. 3).
В логике трихотомии «язык – речь – речевая деятельность» можно утверждать, что и языковая, и речевая способности языковой личности выступают слагаемыми (и более низкими, подчиненными уровнями) ее речедеятельностной способности, которая понимается уже не как использование языка в речи «вообще», а как акт самореализации языковой личности, манифестации ее ЛР компетенции в речевом поступке в рамках речевого события той или иной степени социокультурной значимости. ЛР компетенция выступает качественной характеристикой деятельностно-коммуникативных потребностей языковой личности и выражает степень адекватности и полноты индивидуальной картины мира, фиксирует уровень овладения богатствами родного или иностранного языка. Реальный (естественный) язык как конкретную речевую деятельность следует отличать от абстрактной (идеальной) системы языка, создаваемой с целью его познания и строящейся на основе фактов, которые извлекаются из текстов как результатов речевой деятельности [Мельничук, 1990, с. 299], при этом ассоциативно-вербальная сеть языковой личности выступает в современной лингвистике третьим, наряду с системным и текстовым, способом репрезентации языка [См., напр.: Язык – система, 1995]. Соответственно, возможно логическое включение и взаимное соотнесение трех ведущих ракурсов исследования языка – «язык-система», «язык-текст», «язык-способность» – в рамках подхода «язык – ЛР компетенция языковой личности».

Рис. 3. ЛР константы социокультурной коммуникации
Высокая ЛР компетенция языковой личности выступает практической, «вочеловеченной» реализацией некоторой этносоциокультурной модели идеального речевого поведения. Согласно А. К. Михальской, речевой, или риторический, идеал – это система наиболее общих требований к речи и речевому поведению, исторически сложившаяся в той или иной культуре и отражающая систему ее ценностей – этнических и этических (нравственных). Как центральная категория сравнительно-исторической риторики речевой идеал характеризуется исторической изменчивостью, культуроспецифичностью и социальной обусловленностью, определяющими основы его типологии. В современной российской социокультурной практике фиксируются три основные модификации речевого идеала: советская, американизированная, русская православная. Отечественной словесной традицией в полной мере восприняты основные элементы риторического идеала Сократа, Платона, Аристотеля (Благо – добро, Мысль – истина, Красота – гармония) [См.: Михальская, 1996 а, 1996 б]. Согласно А. А. Волкову, «русское общество с его идеалами, нравственными нормами, техникой мышления, приемами организации и управления сложилось и развивалось в традиции европейской православной культуры, строй и система понятий русской риторики приспособлены к культурной традиции и задачам такой идеологической организации общества, при которой техника аргументации подчинена более высоким мировоззренческим принципам. Поэтому русская риторика избегает психологической трактовки личности, использования общественного мнения как критерия правильности аргументации, релятивистского понимания ценностей, лежащих в основании общих мест и не является суммой рецептов для достижения личного успеха или манипуляций общественным мнением [Волков, 1996 а, с. 5].
Введенное нами понятие «ЛР идеал» способствует детализации и более «технологизированной» интерпретации категории речевого идеала – за счет ее погружения в концептуальное поле системы ЛР образования. ЛР идеал выступает в нашей концепции как образцовое по форме, оптимальное по содержанию и этически ответственное совершение субъектом речи языковых операций (лингвистика), текстовых действий и коммуникативной деятельности (риторика) в рамках речевых событий разных типов.
На основе результатов анализа филологической, философской, психолого-педагогической литературы под нашим руководством охарактеризована сущность ЛР идеала как базового компонента культурно-образовательного пространства (в концепции Ю. С. Тюнникова), выделены его категориальные признаки:
– историческая и этносоциокультурная обусловленность: ЛР идеал формируется в ходе исторического развития того или иного конкретного общества, напрямую связан с его этническим составом, языковой картиной мира, культурными особенностями, этическим кодексом и т. д.;
– когнитивно-коммуникативная природа: сфера функционирования ЛР идеала – речемыслительная деятельность в режиме межличностного общения на основе словесно-понятийного освоения объектов действительности;
– мировоззренчески-аксиологический статус: ЛР идеал функционирует в высшей сфере жизнедеятельности – духовно-мировоззрен-ческой, является продуктом и одновременно генератором системы ценностей данного общества, конкретной языковой личности;
– нормативно-предписательный характер: ЛР идеал устанавливает определенные нормы, правила, требования к речевому поведению в рамках того или иного исторически сложившегося его типа;
– инвариантно-вариативный принцип структурной организации: базовые компоненты ЛР идеала отражают высшие духовные устремления человечества к любви, благу, истине, красоте, гармонии; конкретные правила, требования, нормы изменяются диахронически или синхронно – в связи с этносоциокультурными особенностями, социальным статусом и пр.;
– образовательно-воспитательная предназначенность: форма выражения ЛР идеала – нормы, требования, предписания и т. д. – служит прежде всего оптимальной социализации новых поколений;
– личностнообразующий потенциал: возможность максимально эффективно формировать лучшие качества человека, как личностные, так и собственно речевые, при условии устремленности к ЛР идеалу и самопроектирования в его критериях.
На основе данных признаков было предложено обобщающее определение: ЛР идеал есть исторически сложившаяся и этносоцио-культурно обусловленная система требований к совершению языковых операций, текстовых действий и коммуникативной деятельности, корреспондирующая с актуальной для общества типологией речевых событий, отражающая иерархию ценностей данного культурно-образовательного пространства и определяющая процесс формирования речемыслительной культуры совокупной языковой личности этносоциума и ее воспроизводства с необходимыми трансформациями в последующих поколениях.
В нашей концепции этосный аспект (Благо – добро) является ведущим компонентом ЛР идеала, его «краеугольным камнем». В качестве категориальной антиномии выступает ЛР антиидеал, определяющим компонентом которого является анти-этос как причиняемое словом зло различного радиуса действия (от оскорбления конкретного человека в бытовом конфликте до идеологических построений, ведущих к физическому уничтожению миллионов людей). Соответственно, разграничение в рамках антиномии проходит по линии этически ответственного и нарушающего этические нормы речевого поведения [См.: Юрьева, 2002].
В истории известно немало языковых личностей, ставших носителями ЛР антиидеала; его олицетворением можно считать Адольфа Гитлера, а реально материализовавшимся социолингвистическим воплощением – так называемый «Язык Третьего Рейха» (LTI), проанализированный в работах [Клемперер, 1998; Розеншток-Хюсси, 1994 и др.]. Черты ЛР антиидеала присущи также «советскому языку», который привлекал внимание зарубежных лингвистов на протяжении всей истории его существования, а в отечественной лингвистике находится в центре внимания в 90-е гг. ХХ в. Этапным исследованием в этой области стала монография Н. А. Купиной «Тоталитарный язык: Словарь и речевые реакции» [Купина, 1995].
Феномен тоталитарного языка имеет лингвокультурный характер и не может рассматриваться в отрыве от истории и культуры определенного народа. Тоталитарный язык не только служит «руководством к восприятию социальной действительности», он членит эту действительность на идеологические сферы и вырабатывает примитивные принципы оценки. Процесс его формирования сопровождает ряд общих тенденций: к редуцированию, вытеснению, трансформации константных семантических составляющих идеологии на уровне концепта; к созданию искусственных идеологом и квазиидеологем; к прямолинейной аксиологической поляризации лексики; к развитию антонимических и синонимических рядов, системно закреп ляющих идеологические догмы; к кодифицированию нетрадиционной для русского языка лексической сочетаемости, отражающей идеологические стандарты [Там же, с. 15]. В частности, характерными процессами в художественной сфере выступают формирование рядов оппозиций (содержание-форма; содержательный-формалистический; народное-антинародное; реалистическое-нереалистическое (упадническое); художественное-антихудожественное на фоне общей оппозиции социалистическое-буржуазное (искусство); идеологизация, политизация художественного с помощью философских и политических «доба вок»; трансформация художественного в политическое, охватывающая концепты и ряды концептов, но не разрушающая всю систему [Там же, с. 43]; (см. также «Толковый словарь языка совдепии» [Мокиенко, Никитина, 1998]). Гениальным художественно-фантастическим коррелятом представленных выше немецкого и русского вариантов этносоциокультрной ломки ЛР идеала и превращения его в свою противоположность – ЛР антиидеал – является «новояз» в романе Дж. Оруэлла «1984» (1948 г.), воплощающий крайнюю степень реализации ЛР антиидеала, утвердившегося на идеологической почве (комментарий самого автора см.: [Оруэлл, 1991]).
В соответствии с вышеизложенным было сформулировано следующее определение: ЛР антиидеал – это исторически сложившаяся и этносоциокультурно обусловленная система употребления языка и речевого поведения, носящая ярко выраженный антигуманистический, дестабилизирующий и социально-деструктивный характер, пропагандирующая кардинальную ломку культурно-образовательного пространства, морально и физически уничтожающая инакомыслие, создающая для своих носителей возможность манипулирования совокупной языковой личностью этносоциума и ведущая к деградации национальной речевой культуры.
Таким образом, ЛР идеал и ЛР антиидеал являются противоположными друг другу и диалектически взаимосвязанными категориями; между этими качественными полюсами речемыслительной деятельности совокупной языковой личности этносоциума происходит динамическое становление, функционирование, развитие и деградация того или иного культурно-образовательного пространства; названные стадии эксплицируются средствами речемыслительной культуры, которые в максимально значимом для будущего виде проявляются в профессиональной деятельности педагога.
На материале исследования лингвистической литературы и обширного текстового материала нами исследована специфика советского языкового сознания, определяющая ЛР характеристики советской языковой личности, в частности:
– языковая ситуация советского времени, которую отличает идеологическая диглоссия (М. Геллер, М. Кронгауз и др.), обусловила «двуязычность» советской языковой личности, которая переходит с «советского» языка на «человеческий» язык в неофициальных ситуациях общения;
– уровни структуры советской языковой личности выступают как во многом деформированные; систематическое нарушение советским официолектом прагматической конвенции вызывает «функциональное расстройство» совокупной языковой личности этносоциума, которое можно квалифицировать как «синдром трибуны» (см. миниатюру А. Довженко «Заколдованная трибуна»);
– неадекватность представлений совокупной языковой личности этносоциума, функционирующих в рамках советской мифологии, ее специфический прагматикон (подробнее см.: [Ворожбитова, 2000, с. 182–183]).
Названные типологические черты правомерно считать результирующим продуктом рассмотренных ранее антиэтосных деформаций русского ЛР идеала.
Анализ публицистики перестроечного периода позволил выявить и осмыслить новые элементы в языковой картине мира российского человека как характерные черты постсоветской ментальности. Публицистический дискурс эпохи перестройки в России отразил драматический процесс бурных трансформаций и кардинального обновления идеологической, а значит и ЛР картины мира советского чело века. Если материалы представленной монографии Н. А. Купиной иллюстрируют модель советского тоталитарного языково го сознания, то польская исследовательница И. Коженевска-Берчиньска, под водя итоги лексико-семантического анализа статей ведущих периодических изданий России конца 80-х – начала 90-х гг., отразивших изменения в образе мышления россиян, делает ряд выводов, характеризующих постсоветскую ментальность совокупной языковой личности этносоциума:
1. В отношении российского человека к миру произошли самые мощные сдвиги: заканчивается эпоха зацикленности, изоляции, полного отчуждения «за советской китайской стеной»; советский человек первого перестроечного времени в восторге от «свободного, богатого, беззаботного западного мира», причем «его извечная склонность к утопическим суждениям выливается в бескритичность, благоговение, коленопреклонение перед новым кумиром».
2. В отношении к другим людям прослеживаются следующие тенденции: осознание утопичности противопоставления себя остальному миру и оформившееся стремление к новому идеалу – «быть как все»; постепенное формирование уверенности, что надо «отстаивать место в ряду»; при этом публицистика отражает сохранение основного негативного качества советского человека – «нетолерантность в самых разнообразных ипостасях».
3. В отношении российского человека к самому себе появляются симптомы «колоссальных внутренних потрясений, изобилующих жаждой хотя бы вербально покаяться… понять умом и сердцем свою сущность, найти своего Бога, без которого экзистенция вырождается в бессмысленное существова ние, прозябание».
4. В отношении к советской истории ведущим становится «жанр всеотрицания, предавания анафеме», что является нарушением закона преемственности и смертельно опасно для национальной культуры и ее субъекта [Коженевска-Берчиньска, 1996, с. 147–151] (о клише новояза и цитации в языке постсоветского общества см.: [Земская, 1996])[9].
Приходится с тревогой констатировать, что в настоящее время активно функционирует целый ряд социально-политических группировок, проводящих в жизнь постулаты и нормы именно ЛР антиидеала в различных его модификациях – религиозно-экстремистские, сатанистские, неофашистские, националистические и др. объединения. Соответственно, проектирование системы образования на всех его ступенях в концептуально-идеологическом поле категории ЛР идеала является залогом прогрессивного развития нашего общества.
Нами разработана социокультурная модель сильной языковой личности демократического типа как современная модификация отечественного ЛР идеала и адекватный стратегический приоритет нового этапа образовательной политики. Ее структурные компоненты, детерминирующие генеральной цели системы ЛР образования, представлены на рис. 4:



