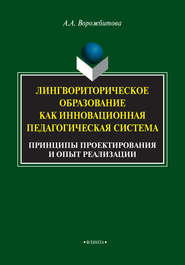
Полная версия:
Лингвориторическое образование как инновационная педагогическая система. Принципы проектирования и опыт реализации
В связи с анализом коммуникативной сущности директивных высказываний исследованы типологические отличия английского и русского языков и особенности национально-культурных сред Великобритании и России, на основе обобщения ряда работ дана сопоставительная характеристика соответствующих этнопсихотипов. Исследуя национально-культурные и языковые особенности британских и российских директивных высказываний, Я. Н. Еремеев, проанализировав типологические отличия английского и русского языков в общих чертах суммирует особенности национально-культурных сред Великобритании и России, которые неизбежно проявляются в коммуникативных актах носителей языков. Так, согласно многочисленным исследованиям (Т. Карлейль, М. Бэринг, В. С. Соловьев, Г. Начев, Ю. Таранцей, Т. Ф. Ухина), основное в английском характере – сила, воля, стремление к очевидности, к упорядоченности, формализм, материализм, консерватизм, свободолюбие, парадоксальность, соревновательность, непременное соблюдение этикетных норм, фатичность, принцип невмешательства в личную жизнь собеседника, подчеркнутая вежливость. В английском общении доминируют этикетно-традиционные формулы обращения и приветствия, наличествует большое количество формальных условностей и правил светского поведения, есть традиционные, этикетные контактоустанавливающие вопросы и фразы.
Основные антонимические пары характеристик русского народа, по Н. О. Лосскому: религиозность – атеизм, страстность – леность, свободолюбие – деспотизм, доброта – жестокость, а также неорганизованность, отсутствие интереса к форме, а для определенных слоев народа – нигилизм и хулиганство. И. А. Стернин, описывая русское коммуникативное поведение, отмечает следующие характерные черты: общительность, искренность в общении, эмоциональность общения, приоритетность «разговора по душам» перед другими видами общения, приоритетность неофициального общения, нелюбовь к светскому общению, стремление к паритетности и простоте в общении, тематическое разнообразие, проблемность общения, свобода подключения к общению других, дискуссионность общения, бескомпромиссность в споре, отсутствие традиции «сохранения лица» побежденного в споре собеседника.
Следуя тезису В. фон Гумбольдта о взаимовлиянии народа и его языка, Я. Н. Еремеев не считает случайным совпадением такие черты народа и характера, как рационализм англичан, их стремление к упорядоченности и систематизации и соответствующая этому высокая степень формальной упорядоченности, четкая структура, стандартизация в языке[11]. Русские проявляют меньший интерес к форме, к систематизации, они более свободны в выражении, соответственно и формы выражения в языке менее упорядочены и более разнообразны.
Исследование тактик модификации поведения собеседника с помощью регулятивных речевых актов (регулятивов) в русской и американской культурах демонстрирует существенные различия. Во второй не только гораздо реже используются такие регулятивы, как замечания, но даже отсутствует лексема, точно отражающая понятие замечание, – таковы традиции и нормы речевого поведения. Если русский прибегает к замечаниям, то американец использует речевой акт просьбы. Практически отсутствует сниженная лексика, оскорбляющая достоинство адресата. Для модификации поведения собеседника (побуждение адресата к действию, к общению, коррекция эмоций собеседника и др.) американцы предпочитают использовать речевые акты просьбы, совета, приглашения, так как они наименее конфликтны. Не принято открыто выражать недовольство собеседником, так как это может обидеть адресата или затронуть его личные интересы. Если в российской коммуникативной культуре выделено четыре контекста, в которых наиболее частотны замечания (школа, вуз, семья, общественные места), причем возможны замечания в адрес лиц с равным социальным статусом, в том числе в оскорбительной форме, то выделение коммуникативных контекстов второго и четвертого для американской культуры нерелевантно [Шилихина, 1987]. Американцы не делают замечаний равным по социальному статусу лицам, а также незнакомым детям. (О цикле исследований воронежских ученых в области этнокультурной специфики коммуникативного поведения см.: [Стернин, 2001]).
С сожалением констатируем, что подобные заключения позволяют трактовать коллективную русскую языковую личность как авторитарную, вследствие чего представленные в параграфе 1.2. характеристики демократического типа языковой личности являются весьма актуальными для системы образования.
На основе материала, изложенного в данном подразделе, сформулируем следующие выводы:
1. Языковая личность предстает в современной науке как многокомпонентный набор языковых способностей, умений, готовностей к осуществлению речевых поступков разной степе ни сложности, классифицируемых по ряду оснований. Утверждение антропоцентрической лингвистики как гуманистического направления современного языкознания, генетически восходящего к лингводидактике – «первичной теории языка», создает теоретическую основу реализации личностно-ориентированного подхода к языку в обучении.
2. Анализ соотношения методики преподавания русского языка, лингводидактики как ее теоретического ядра и антропоцентрической лингвистики свидетельствует, что антропоцентризм на данный момент не является ведущим принципом преподавания языка: отправной пункт лингводидактических построений – «образ языка» системно-структурной лингвистики, препарируемый в соответствии с представлениями о психологических особенностях личности, но не сама языковая личность. Концепция ЛР образования нацелена на преодоление этого противоречия.
2.1.2. «Риторический Ренессанс» как фактор формирования концепции
В данном подразделе решаются следующие задачи:
– проанализировать феномен «риторического Ренессанса», характеризующего развитие речеведческих дисциплин во второй половине ХХ в. (в России – с 90-х гг.);
– проследить процесс возрождения риторического образования в России, обусловленный эпохой перестройки, демократизации и гласности;
– обосновать закономерность формирования интегративного ЛР подхода на базе трактовки неориторики как «функционального языка культуры» и признания паритетности и взаимодополняющего характера лингвистики и риторики.
В лингвистических кругах зачастую бытует узко прикладное понимание риторики как учения об ораторском искусстве. Однако в этом вопросе, безусловно, следует ориентироваться на словарные трактовки 90-х гг. (Формулируя базовые понятия в параграфе 1.2, мы посвятили два абзаца риторике, однако в специальном разделе необходимо более подробное рассмотрение.) По словарю-справочнику «Педагогическое речеведение» под ред. Т. А. Ладыженской и А. К. Михальской (М., 1993, 1998) риторика (греч. rhetorike techne от rhetor – оратор) – теория и практическое мастерство целесообразной, воздействующей, гармонизирующей речи. Особо подчеркнем, что возникшая в античности (середина первого тыс. до н. э.) теория риторики синкретически заключала в себе все основные дисциплины гуманитарного круга. Именно в связи с завершением их выделения и специализации к середине XIX в. риторика утратила методологический статус фундаментальной теоретической области знаний.
Как известно, в начале XX в. предмет «Риторика» был исключен из школьного преподавания в России, так как к концу XIX в. наиболее массовым, самым влиятельным видом текстов стала художественная литература, филологическая мысль перенесла фокус исследований в область поэтики, активно развивались науки о художественной литературе [Рождественский, 1986, с. 9]. Попытки обновить риторику применительно к новой социокультурной ситуации 20-х гг. имели место: под эгидой А. В. Луначарского был создан Институт живого слова, создавались методические пособия для советских агитаторов и пропагандистов. Однако восстановления риторики в статусе «философии филологии» в рассматриваемый период не произошло, и ее функции стали брать на себя «дочерние» дисциплины. Прежде всего это культура речи, получившая сильный нормализаторский уклон (вместо коммуникативно-прагматического) в связи с необходимостью обеспечить элементарную грамотность огромных масс населения.
В итоговой таблице «Исторические изменения предмета риторики в России» учебного пособия А. К. Михальской находим: XX в., первая половина. Риторика как наука окончательно уступает место ряду дисциплин, возникших на ее основе: стилистике и поэтике, герменевтике и теории литературы, культуре речи и методикам преподавания языков, лингвистике текста, лингвистической прагматике (науке о языковом воздействии) и ее области – неориторике. XX в., вторая половина. Синтез всех этих дисциплин и классической риторики приводит к становлению современной риторики [Михальская, 1996 а, с. 27–28]. Эти процессы конкретизируются в словарной статье:
«Развитие гуманитар ной культуры с середины XX в. отмечено т. н. «риторическим Ренессансом», или «возрождением риторики». Это касается, в первую очередь, теории риторики: лингвистика и литературоведение вновь обращаются к классическому риторическому наследию, переосмысливая его на новом уровне…
Со второй половины XX в. за рубежом отмечается интерес к риторической практике, возникают специальные методики и курсы совершен ствования речевого общения, слушания и понимания, быстрого чтения и пр. В последние годы проявления «риторического Ренессанса» заметны и у нас. Однако современная отечественная теория общей риторики, предметом ко торой являются общие закономерности речевого поведения, действующие в различных ситуациях общения, и пути оптимизации речевого общения, в отечественной филологии только начинает разрабатываться. То же касается и современных частных риторик, на основании которых возможно совершенствование речевого общения в так называемых «сферах повышенной речевой ответственности» (таких как дипломатия и медицина, педагогика и юриспруденция, административная и организаторская деятельность, социальная помощь, журналистика, торговля, услуги и пр.)» [Педагогическое речеведение, 1998, с. 203–204. – Курсив наш. – А.В.].
Отметим в связи с этим, что в системе американсокого образования традиция преподавания риторики фактически не прерывалась, осуществляясь в рамках курса «Речь» («Speech»). Американцы взяли на вооружение аристотелевскую трактовку риторики – как науки о средствах убеждения относительно каждого данного предмета – и успешно развивали идеи «топики» Аристотеля в многочисленных эвристиках. Популярные после перестройки руководства Д. Карнеги, П. Сопера, воспринятые как откровение, были типичными для американской коммуникативной культуры. (Отечественные пособия – Ножин Е. А. «Основы советского ораторского искусства» (М., 1973), Апресян Г. З. «Ораторское искусство» (М., 1978) и подобные, очевидно, вследствие своего академизма, были мало известны, тем более что не только в школах, но и в вузах предмет риторики отсутствовал). Так как риторическая культура является прежде всего речемыслительной, и, повторим, овладеть риторическим классическим каноном означает приобщиться к европейской мыслеречевой культуре (А. К. Михальская), вполне правомерно, на наш взгляд, связать факт непрерывности риторического образования в США и исчезновения риторики как учебной дисциплины в России в ХХ в. с экономическим и политическим процветанием первого и кризисным состоянием второго государства в настоящий момент[12]. Перестройка, первые публичные речи на съездах обнажили неумение говорить публично как оборотную сторону недостаточного умения мыслить, невладения политической культурой[13].
Стремительное осознание в России конца ХХ в. значимости риторики в системе гуманитарного знания потребовало обращения к классическому риторическому наследию. Если в прошлые десятилетия такие издания были единичными [Ломоносов, 1952; Цицерон, 1972; Аристотель, 1978 и некоторые др.], то в конце 80-х – в 90-х гг. восполнению этой образовательной лакуны способствовал целый ряд научных и учебных изда ний [Грималь, 1991; Исаева, 1994; Минеева, 1994 б; Логика и риторика 1997 и многие др.]. Активизируется интерес к истории риторики в России [Красноречие Древней Руси, 1987; Вомперский, 1988; Граудина, Миськевич, 1989; Елеонская, 1989; Поварнин, 1993; Минеева, 1994; Русская риторика, 1996; Аннушкин, 1999 и др.]. Так, В. И. Аннушкин скрупулезно анализировал в своих работах редакции риторики XVII века, старообрядческую риторику, риторики петровского времени, включая руководства М. В. Ломоносова. В итоге исследователем была издана книга «Ис тория русской риторики. Хрестоматия» (М., 1998). Рассматриваются достижения отечественной риторики, представляемой теорией и практикой таких ключевых фигур российской словесности XVIII в., как М. В. Ломоносов, Г. Р. Державин (наш опыт анализа риторическим фигур в поэтическом языке последнего см.: [Ворожбитова, 1993]), А. С. Пушкин [Михайлова, 1988] и др.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Как будет показано в подразделе 2.2.2, в аспекте формирования коммуникативной и – шире – речемыслительной культуры девиз системы ЛР образования может быть сформулирован как «Вперед, к Ушинскому!».
2
В связи с обоснованием представленной в следующем параграфе идеальной социокультурной модели сильная языковая личность демократического типа отметим, что на обложку пособия (проект «Учебник для XXI») вынесены слова идеолога гуманистической педагогики К. Роджерса: «Нелегко стать глубоко человечным, доверять людям, сочетать свободу с ответственностью. Путь, представленный нами, – это вызов. Он предполагает изменение нашего мышления, нашего способа бытия, наших отношений с учащимися. Он предполагает непростое принятие на себя обязательств демократического идеала. Все это в конечном счете сводится к вопросу, который мы должны задать каждый по отдельности и все вместе: осмелимся ли мы (курсив наш. – А.В.)?
3
Симптоматично, что авторы приводят полный текст газетной статьи немецкого журналиста С. Марголиной с полемически заостренным названием «Не упивайтесь мифом о «лучшем в мире образовании». Здесь мы находим жесткую, но в то же время вполне объективную констатацию: «…У российского образования много проблем, оно само есть серьезная проблема посткоммунистического общества, тормоз на пути преобразований его в современное. Миф о «лучшем в мире» вовсе не способствует улучшению ситуации, как думают некоторые, а лишь блокирует саму рефлексию образовательной системы» [Цит. по: Управление качеством образования, 2000, с. 111. – Курсив наш. – А.В.].
4
См. также развернутую рецензию В. С. Лысенко на «Школьную реформу…» Э. Д. Днепрова. В связи с последующим изложением акцентируем, что книга «создавалась энергией напряженного стремления – успеть… прокричать образовательной общественности, учительству: грядет опасность, самоуспокоение смерти подобно…»; она «являет собой образцово организованный, логически безупречно выстроенный дискурс», так что может служить наглядным пособием для исследователей-гуманитариев [Лысенко, 1996, с. 1–2].
5
Невольно вспоминаются и классические русские вопросы: «Кто виноват?» и «Что делать»?
6
Приведем также анализ результатов тестирования по русскому языку в Новгородской области (восклицательные знаки автора): «полная» аттестация 11-х классов дала 54 % неудовлетворительных (!) оценок. В основной школе 50 % правильных ответов дали учащиеся лишь 22,5 % школ. К тому же обнаружено еще и завышение школьных оценок в сравнении с результатами тестирования в 29 % случаев в основной (9-летней) школе и в 54 % – в средней! Картина в целом получается не слишком радостная, и то, что это уровень, совпадающий со средним по всей России, не радует, а удручает – и, может быть, подтверждает актуальность нашего локального опыта [Каганович, 2001, с. 29].
7
Отметим, что вряд ли правомерен следующий синонимический ряд к репродуктивному мышлению как оппозиции продуктивному, – рассудочное, рецептивное, дискурсивное, словесно-логическое [Современный словарь по педагогике, 2001, с. 457], так как последние есть высшая фаза развития мышления и могут носить как репродуктивный, так и сугубо творческий характер.
8
См. в связи с этим: [Негневицкая, Шахнарович, 1981; Валитова, 1999; Маланов, 2001]; программно-методическое обеспечение формирования этикетного речевого поведения у дошкольников см: [Курочкина, 2001]).
9
В связи с рассматриваемой проблематикой приведем названия наших совместных работ со студентами, участниками ЛР кружка (см. параграф 5.2), опубликованных в межвуз. сб. науч. трудов студентов «Языковая структура и социальная среда» (Воронеж, 2000): «Документы русского терроризма: лингвориторические истоки тоталитарного языкового сознания», «Советское языковое сознание как ментальная диглоссия лингвориторического характера», «Постсоветская ментальность в зеркале публицистического дискурса», а также сб. материалов ежегодных международных молодежных конференций, проводимых на базе СГУТиКД.
10
Современная концепции риторической этики (с учетом религиозной принадлежности языковой личности) представлена в работах [Варзонин, 2001а, 2001 б].
11
Отметим в связи с этим, что существует традиционное мнение: русский язык, как правило, «не обременяет себя соображениями гуманности и чуткости по отношению к отдельному человеку», английский же язык будто бы и добрее, и гуманнее, и вежливее к человеку. Однако эти характеристики скорее исходная психологическая позиция в выборе языковых средств, так как язык отлично может выразить все [См.: Тер-Минасова, 2000, с. 223].
12
В дискуссионном порядке выскажем гипотезу о том, что за основу в них были приняты разные трактовки риторики. Как известно, первое направление в ее истории – наука и искусство «говорить убедительно» (Аристотель) не было единственным, варьируясь в древнеримских интерпретациях Цицерона и Квинтилиана в пределах не только «говорить хорошо», но и «говорить красиво», вплоть до малосодержательного витийства. И если американцы довели до компьютерного воплощения аристотелевскую концепцию (эвристики Пайка, Ларсона и др., см.: [Сычев, 1991], то в трактовке русифицировавшего римскую риторику М. В. Ломоносова это наука о всякой вещи красно (т. е. красиво! – А.В.) говорить и тем преклонять к своему об оной мнению. Риторическое изобретение как «размножение идей», по М. В. Ломоносову, разумеется, разрабатывалось во всех русских риториках (Кошанского, Зеленецкого и др.; полный библиграфический список см. в специализированном журнале «Риторика» (М., 1995). Однако, очевидно, упор в обучении делался больше на вызывавшие критику за «схоластику» таксономии тропов и фигур, натаскивание в области выражения, изоморфной столь плодотворно развившейся поэтики как рецептивной параллели риторики (та же элокуция, но в готовом тексте, т. е. словесное искусство, стиль художника слова).
13
Специального риторического анализа заслуживает феномен «захлопывания» академика Сахарова, который, с одной стороны, связан со спецификой культуры слушания аудитории; с другой стороны, при оптимальном владении письменной речью возможна беспомощность в жанре устного выступления на сцене.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов



