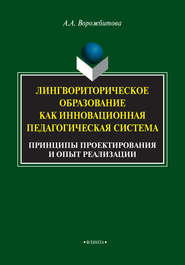
Полная версия:
Лингвориторическое образование как инновационная педагогическая система. Принципы проектирования и опыт реализации
Выделяются три группы результатов образования – с точки зрения воз можности / невозможности их определения: 1) определяемые количественно, в абсолютных значениях, в процентах или в каких-то иных, но обязательно измеряемых параметрах; 2) определяемые только квалиметрически, то есть качествен но, описательно или в виде балльной (уровневой) шкалы, где любому баллу соответствует определенный уровень проявления качества (высокий, средний, низкий, достаточный, необходимый, оптимальный, допустимый, недопустимый и т. д.), подробность описания которого достаточная для корректного использования (см., напр., перечень возможных уровней усвоения изученного в разработке В. В. Краевского, И. Я. Лернера, М. Н. Скаткина. – А.В.); 3) не обнаруживаемые явно, относящиеся к внутренним, глубинным переживаниям личности. Первые две группы результатов образования можно отнести к их рациональной составляющей, третья отражает так называемую иррациональную составляющую, когда управляемость результирующих параметров ничтожна [Там же, с. 34–35]. Признание примерности, приблизительности, преимущественно качественного характера результатов образовательного процесса и его управления не отвергает необходимости и возможности их прогнозирования, проектирования и оценки [Там же, с. 60].
Обратимся к качественным оценкам российской образовательной системы рубежа тысячелетий, представленным в научно-педагогической литературе последних лет. Наряду с положительными отзывами об ознаменовавших последнее десятилетие инновационных поисках и новаторской устремленности системы нашего образования, они, к сожалению, по-прежнему отражают ее значительное несоответствие социальному заказу и требованиям новой эпохи в жизни российского государства. Приводимые далее суждения извлечены из достаточно авторитетных изданий и, несмотря на их ограниченное число, адекватно отражают общее представление о рассматриваемом вопросе.
На основе анализа причин резкого снижения качества российского образования в последние годы М. М. Поташник и соавторы называют следующие основные факторы: кардинальная смена ценностных ориентаций, плюрализм программно-методического обеспечения, регионализация образовательных систем, утрата государством монополии на рынке образовательных продуктов и услуг, разрушение единого образовательного пространства России [Там же, с. 13–14][3].
Решение многочисленных проблем образовательной сферы возможно только при условии подлинно системного подхода к социокультурным и образовательным процессам, которые взаимно детерминируют друг друга (при ведущей роли первых). Как подчеркивает З. А. Решетова, «один из важнейших дидактических принципов – «связь обучения с жизнью» – в самом общем его эмпирическом понимании означает: учить тому, чего требует жизнь. Теоретический его смысл состоит в том, чтобы обратиться к анализу сущностных изменений в реалиях общественного бытия, к которому обучение должно подготовить новое поколение: сформировать человека как активного, сознательного и творческого субъекта деятельности, способного не к пассивному приспособлению к новым социальным условиям жизни, а как утверждающего ее развитие своим индивидуально-личностным бытием и деятельностными способностями» [Формирование системного мышления в обучении, 2002, с. 3. – Курсив наш. – А.В.].
Формирование россиянина как личности нового типа, востребованной неотложными задачами социально-экономического подъема и политической стабилизации России, невозможно при отсутствии действенных, полноценных в нравственно-этическом отношении и одновременно прагматических мировоззренчески-идеологических ориентиров, определяющих цели образования. Только на их основе может быть построена некоторая идеальная социокультурная модель личности, адекватная данному социальному заказу. «…На нынешнем этапе жизни России, когда идет настойчивый поиск путей выхода из социально-экономического и духовного кризиса, выдвигаются, осмысливаются и обосновываются новые ценности и идеалы, призванные объединить общество» [Программы авторских курсов, 1996, с. 6. – Курсив наш. – А.В.]. «Ценностные доминанты российского образования… определяются реалиями переходного периода от кризиса индустриальной к становлению постиндустриальной цивилизации»: приоритетное развитие творческих и проективных способностей обучающихся; фундаментализация науки и повышение качества подготовки специалистов; изменение экологического сознания и воспитание профессиональной нравственности; формирование информационной культуры обучающихся, планетарного мышления путем введения новых дисциплин (системного моделирования, синергетики, прогностики, глобалистики и др.), новой мировоззренческой парадигмы (от антропоцентризма к ноосферному сознанию), новых ценностных ориентаций на основе гуманистических доминант. Все эти процессы «напрямую связаны с усилением воспитательной компоненты образования, духовным и нравственным воспитанием молодежи через знания и убеждения» [Педагогика и психология высшей школы, 2002, с. 25–26].
В контексте общего процесса модернизации России образовательная проблематика глубоко проанализирована Э. Д. Днепровым. Образование выступает в его масштабном научном труде «Школьная реформа между «вчера» и «завтра» (М., 1996) как субъект модернизации, под которой следует понимать не только изменения в экономике, но и «глубинные трансформации в политической, социальной жизни, в социокультурной и духовной области, в повседневности», «преобразование ценностных ориентаций общества, стиля и качества его жизни, общественных отношений», «в конечном счете изменение в самом типе личности человека, в характере, структуре индивидуального сознания и поведения, личностной самоорганизации», – причем «все эти изменения теснейшим образом взаимосвязаны» [Днепров, 1996, с. 17. – Курсив наш. – А.В.][4].
Кардинальные сдвиги в первом звене системы дидактических задач (классические вопросы «Зачем учить?», «Чему учить?», «Как учить?»[5]) требуют трансформации остальных звеньев. Так, для решения накопившихся в системе высшего образования проблем государство стремится «стимулировать творческую разработку и освоение в учебном процессе нового содержания гуманитарных и социально-экономических дисциплин… и в конечном счете – продвинуть вперед реформу нашей высшей школы» [Программы авторских курсов, 1996, с. 6. – Выделено нами. – А.В.]. Структурно-содержательная реформа высшего образования реализуется в новых образовательных стандартах и группах специальностей, «радикально обновляются гуманитарная, экологическая и другие компоненты содержания образования, содержание подготовки специалистов приводится в соответствие с новой конъюнктурой рынка интеллектуального труда» [Перспективные направления и методология обновления, 1997, с. 2]. Процесс поиска нового содержания образования и новых форм педагогического труда в авторской школе, все устройство которой направлено на создание условий для роста свободной, способной к самоопределению и саморазвитию личности, представлен в сборниках «Школа самоопределения» (ред. и сост. А. Н. Тубельский. – М., 1989, 1994). Если первый шаг этой инновационной школы был связан с тем, что учителя, выделив ядро предмета на основе типовой учебной программы, создавали более эффективные технологии усвоения этого ядра (погружение, межпредметные уроки, уроки пробы сил, поиск новой функции оценки знаний на основе содержательных характеристик), то второй шаг авторского коллектива – «попытка стать субъектами содержания образования. Не только учить по-другому, но и учить другому» [Школа самоопределения, 1994, с. 4]. В рамках «новой образовательной парадигмы – ориентация на личность и ее развитие» – формируется концепция проективного образования (Г. Л. Ильин), предполагающего «изменение задач и целей школьного и вузовского образования»: «дать каждому такие знания, которые позволят ему стать уникальным специалистом, собственником приобретенных знаний и умений» [Перспективные направления и методология обновления, 1997, с. 39].
Обновление цели и содержания образования требует внедрения адекватных и прежде всего гораздо более эффективных педагогических (образовательных) технологий. Данное понятие представлено в научно-педагогической литературе с различных точек зрения. В справочнике по педагогической технологии (ред. Н. Е. Щуркова) последняя понимается как «научно обоснованный выбор характера операционального воздействия в процессе организуемого учителем взаимообщения с детьми, производимый в целях максимального развития личности как субъекта окружающей действительности» [Краткий справочник по педагогической технологии, 1997, с. 3]. Авторы выделяют аспект организации педагогического процесса как искусства: «Педагогическая технология есть некоторая проекция теории и методики воспитания на практику воспитания, сфокусированная в одной точке, чрезвычайно краткой по времени, еле уловимой по способам, индивидуализированной в силу широчайшего многообразия персональных особенностей личности учителя и ученика» [Там же]. Более «техничным» и актуальным для нашей концепции представляется определение М. М. Поташника и соавторов (со ссылкой на зарубежный источник): «Выявление принципов и разработка приемов оптимизации образовательного процесса путем анализа факторов, повышающих образовательную эффективность конструированием и применением приемов и материалов, а также посредством оценки применяемых методов» [Управление качеством образования, 2000, с. 279]. Удачной представляется следующая афористичная формулировка: «Педагогическая технология – это строго научное проектирование и точное воспроизведение гарантирующих успех педагогических действий» [Шиянов, Котова, 1999, с. 250].
Основные тенденции совершенствования образовательных технологий в психолого-педагогическом плане, согласно Г. К. Селевко, характеризуются переходом: от учения как функции запоминания к учению как процессу умственного развития, позволяющего использовать усвоенное; от чисто ассоциативной, статической модели знаний к динамически структурированным системам умственных действий; от ориентации на усредненного ученика к дифференцированным и индивидуализированным программам обучения; от внешней мотивации учения к внутренней нравственно-волевой регуляциии» [Селевко, 1998, с. 3].
Педагогическая технология в понимании ученого – содержательное обобщение определений разных авторов, образуемое единством трех аспектов: 1) научного: педагогические технологии – часть педагогической науки, изучающая и разрабатывающая цели, содержание и методы обучения и проектирующая педагогические процессы; 2) процессуально-описательного: описание (алгоритм) процесса, совокупность целей, содержания, методов и средств для достижения планируемых результатов обучения; 3) процессуально-действенного: осуществление технологического (педагогического) процесса, функционирование всех личностных, инструментальных и методологических педагогических средств. «Таким образом, педагогическая технология функционирует и в качестве науки, исследующей наиболее рациональные пути обучения, и в качестве системы способов, принципов и регулятивов, применяемых в обучении, и в качестве реального процесса обучения» [Там же, с. 14–15]. (См. также учебные пособия [Беспалько, 1989; Педагогическое мастерство и педагогические технологии, 2001; Кочетов, 2000; Педагогика, 2000 (раздел IV «Основы технологии целостного педагогического процесса»)]; монографию [Кучугурова, 2001] и др.)
Более узким понятием является технология обучения, которая «в документах ЮНЕСКО… рассматривается как системный метод создания, применения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм образования» [Педагогика и психология высшей школы, 2002, с. 158]. «Инновационные технологии обучения следует рассматривать как инструмент, с помощью которого новая образовательная парадигма может быть претворена в жизнь» [Там же, с. 171. – Курсив наш. – А.В.]. В основе их разработки лежат принципы: целостности; воспроизводимости; «нелинейности педагогических структур и приоритетности тех факторов, которые оказывают непосредственное влияние на механизмы самоорганизации и саморегуляции соответствующих педагогических систем»; адаптации процесса обучения к личности; потенциальной избыточности учебной информации как условия формирования обобщений [Там же, 172]. В отличие от методики преподавания технологии обучения «предполагают разработку содержания и способов организации деятельности самих школьников». Они требуют диагностического целеобразования и объективного контроля качества процесса обучения, направленного на развитие личности учащихся в целом [Шиянов, Котова, 1999, с. 252].
В целях оптимизации образовательно-воспитательного процесса предлагается, например, перевести школу с традиционной модели в русло педагогической технологии модульного обучения – в связи с тем, что первая «находится в противоречии с законами и закономерностями психофизиологической деятельности человека и теории управления» [Третьяков, Сенновский, 2001, с. 4]. Ведущие принципы модульного обучения – структуризации его содержания на обособленные элементы, динамичности, деятельности, гибкости, осознанной перспективы, разносторонности методического консультирования и паритетности [См.: Юцявичене, 1989]. По поводу классно-урочной системы организации обучения констатируется, что, сложившаяся в XVII в., она нуждается в неотложном преобразовании, причем возможна разная степень инновационности – от ее модернизации, рационализации, оптимизации вплоть до кардинальной реорганизации или даже отказа от нее и замены на иной способ организации обучения. В качестве пока малоизвестной в России, однако весьма перспективной альтернативы называют предметно-урочно-групповую, или предметно-уровневую, организацию обучения, разработанную В. В. Пашаевым [Управление качеством образования, 2000, с. 273. – Курсив наш. – А.В.].
В научно-педагогической литературе достаточно подробно охарактеризован целый ряд современных технологий обучения, альтернативных традиционной «передаче знаний, умений и навыков»: поэтапного формирования умственных действий; коллективного взаимообучения; полного усвоения; разноуровневого обучения; адаптивного обучения; программированного обучения; проблемного обучения; модульного обучения; гарантированнного обучения; индивидуализации обучения на основе учета когнитивного стиля [Шиянов, Котова, 1999, с. 253–285] (см. также: [Левитес, 2001, с. 164–237; Новые педагогические и информационные технологии, 2001]; о системе развивающего обучения Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова и системомыследеятельностной методологии Г. П. Щедровицкого см.: [Образование 21 века, 2002]). Отметим, что авторы констатируют: каждый учитель сегодня знает, что нельзя обучать репродуктивными методами, однако большинство продолжают работать по-старому.
Для нас особенно показательно, что с целью «усилить понимание остроты проблемы» М. М. Поташник и соавторы приводят «несколько примеров плохого качества образования и как следствие этого – низкого общего развития многих взрослых» именно из области речемыслительной культуры, интегральной лингвориторической компетенции личности. Первый пример относится к ее лингвистической составляющей – соблюдению норм литературного языка, которое выступает своего рода «лакмусовой бумажкой» уровня общей культуры:
«Речь идет не только о том, что люди, занимающие высокие государственные посты и потому постоянно вы ступающие по телевидению перед десятками миллионов россиян, мягко скажем, плохо говорят по-русски («инциндент», «возбуждено», «предложить» и др.), а иногда так, что невозможно понять смысл сказанного. Это, конечно, плохо, неприятно, но не драматично для окружающих. Беда в том, что многие государственные мужи из-за низкого качества образования демонстрируют свое слабое интеллектуальное развитие и потому принимают ошибочные решения, касающиеся жизни каждого россиянина» [Там же, с. 14–15].
Добавим, что первые съезды народных депутатов, которые в период перестройки стали транслироваться в прямом эфире, продемонстрировали низкую речевую и, соответственно, недостаточную мыслительную культуру большинства выступавших. Во всех учебных пособиях, материалах научно-методических конференций, сборниках статей по проблемам культуры речи и риторики стало традицией приводить многочисленные речевые ошибки народных избранников. И за 15 лет положение не улучшилось:
«Действительное состояние общей культуры российского общества вполне ясно выражается колоритным строем речемыслительной деятельности главного устроителя «Российского Дома», недавнего премьер-министра, призванного обеспечивать общественного воспроизводства, контролировать целенаправленное развитие общества, повышать эффективность социальной практики. «Я всегда был в гуще людей, – подчеркивает господин В. С. Черномырдин свою неразрывную связь с народом, – …и в совершенство владею русским народным языком. Когда иные пытаются со мной говорить не так, как надо, для меня это песня, у меня сразу открывается источник, который не дает на чем-то взять, скрутить» [Гореликов, Лисицына, 2001, с. 5].
Между тем, как сказано в работе «Россия XXI века: перспективы развития», именно политики сегодня во многом формируют нашу культуру, хотя в данном контексте все труднее использовать термин «культура». Газеты, журналы, радио, телевидение обильно цитируют многочисленных политических деятелей, берут у них интервью, устраивают теледебаты, интересуются их мнением по всем вопросам [Давлетшина, 2001, с. 20].
Таким образом, говоря о результативности и качестве образования, неизбежно фокусируешься на его вербальном аспекте. «Слово в речи конкретного человека оказывается не просто именем, обоснованием, меткой объекта, но и личностным отражением самого говорящего. Говорящий активно вычерпывает из объекта определенные, интересные для него аспекты и стороны (намеренно оставляя в тени другие), и характер такого вычерпывания предопределяется параметрами личности. Через слово говорящий моделирует не просто некоторый объект, но определяет способ личного взаимодействия с этим объектом, воплощает своей речью четкую позицию по отношению к объекту. Выбор слова есть, таким образом, одновременно выбор одной из возможных интерпретаций объекта» [Кочеткова, 2002].
Второй пример, иллюстрирующий низкое качество российского образования, переводит нас в сферу риторики (второй составляющей ЛР компетенции). Она вступает в свои права на уровне связного текста, ментально-дискурсивного пространства, поля аргументации, зависящей от риторической иерархии топосов – ценностных суждений [См.: Волков, 1995], принятых личностью в качестве лингвокогнитивного конструкта его картины мира:
«Общеизвестно и очевидно, что часть депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации не понимает, что… свобода начинается с экономической свободы. Многие из них никогда не изучали труды выдающегося русского религиозного философа Николая Бердяева, не читали его книгу «Философия неравенства», а потому просто не знают некоторых ценностных идей, понятных во всем мире. (…) Анализируя выступления современных общественных деятелей, исповедующих националистические взгляды, убеждаешься, что они не знакомы с (хотя и не бесспорны ми, но исповедуемыми во многих странах, где не бывает межэтнических конфликтов) идеями космополитизма. В основе этих идей лежит весьма прогрессивная иерархия ценностей: в первую очередь, человек идентифицирует себя как человека Земли…; во вторую очередь, человек идентифицирует себя как гражданина того или иного многонационального государства… В третью очередь, человек идентифицирует себя как представителя… того или иного народа, национальную культуру которого он изучает, развивает, обогащает» [Управление качеством образования, 2000, с. 15. – Курсив наш. – А.В.].
На первый взгляд, речь идет о сугубо философской подготовке, однако нельзя забывать, что любая философия – это прежде всего риторически организованный текст, внутренне непротиворечивое дискурсивное пространство, моделирующее тот или иной ментальный мир, систему координат человека как языковой личности. Она организует процесс своей жизнедеятельности в соответствии с определенной ЛР картиной мира – дискурс-универсумом, глобальной областью описаний, о чем более развернуто будет сказано в следующем параграфе [См. также: Ворожбитова, 1996 а, 1996 б]. В уже цитировавшейся статье С. Марголиной классический университет понимается как «непрерывный дискурс на тему о языке, которым можно описывать опыт», дающий «понимание границ собственного знания»; задача университета – «не продолжить школу на более обширном материале, но научить методологической рефлексии и способности ориентироваться в современных научных концепциях» [Цит. по: Управление качеством образования, 2000, с. 110–111. – Курсив наш. – А.В.].
«Русский язык в опасности! – думаем мы подчас, ибо слово «Россия» давно уже ассоциируется со словом «катастрофа», – такой фразой начинает А. А. Мурашов учебное пособие «Культура речи учителя» [Мурашов, 2002, с. 3]. В специализированных журналах и многочисленных сборниках материалов научно-методических конференций по проблемам языкового образования, формирования культуры речи, риторической подготовки в школе и вузе (как правило, международных, ставших традиционными со второй половины 90-х гг.), на разных уровнях рассмотрения – от философского, политического, психологического, общепедагогического до собственно методического – представлен широкий спектр наболевших вопросов в рассматриваемой области.
С внешнеполитической точки зрения униженное состояние бывшего «имперского» языка расценивается как «культурная и образовательная катастрофа»: потеряв огромный контингент изучающих русский язык с целью получения российского образования (бывшие соцреспублики, страны народной демократии, развивающиеся страны), Россия утратила огромный интеллектуальный рынок, что неизбежно приведет к потере рынков сбыта российской продукции; отсюда острая необходимость целенаправленной политики в области пропаганды изучения русского языка [Ляпина, 2001].
Мышление, говорение, понимание – виды деятельности, которые затрагивают, пронизывают все практические и духовные действия человека, являются средствами и формами выражения его общественного и психического существования; речевая деятельность выступает и как существенный компонент других видов деятельности [Трошкина, 2001]. Для продуктивного решения накопившихся в области речемыслительной культуры проблем необходим в первую очередь глубокий философский анализ проблем «языкового существования нации». Если в традиционном понимании язык – знаковая система, средство отражения мира, коммуникации, выражения мысли, то в новом – это сила, управляющая мыслью (А. С. Хомяков), энергия (Гумбольдт), дом бытия (Хайдеггер). Человек до ХХ в. не догадывался, что его дом – это мир языка, почему же он не погиб? «А почему мы уверены, что не погибаем? В неподлинном бытии и неподлинном языке?» [Винокурова, 2001, с. 15].
Политические и общественные потрясения в современном мире выдвинули на передний план проблему языка как необходимого фактора обеспечения социальной стабильности [Колыхалова, 2001]. Между тем критериями содержательности информации стали сенсационность и скандальность, а языковой выразительности – разговорность, просторечие и жаргон. Бюрократически-коммунистический новояз сменился либеральным, экспансия сниженной, уголовной, обсценной, инвективной лексики, «слов-обрубков» захватила даже интеллигенцию [Панов, 2000]. Обобщенная характеристика нынешнего состояния речемыслительной культуры российского общества и соответственно русского языка такова:
«Симптомом перехода от вульгарного языка к криминально-матерному является феномен «озвучивания», в котором исчезает творческий, субъективно-личный смысл слова, его духовный корень – и остается лишь пустая оболочка, способная укрывать любое значение, лишенное качественной сродненности с содержанием, внутренней силы жизни. Сегодняшнее «озвучить», заполнившее пространство речевого общения, есть лишь «знак» без-мысленной жизни людей, их бессмысленной деятельности, бледная тень творческой сути слова, суррогат когнитивных усилий «человека говорящего»… В процессах «озвучивания» исчезает духовная связь между Словом и Делом, истребляется совесть и этика Слова как идейная основа нравственного поступка: размывание различий между низшим и высшим говорит об истощении внутренних сил в разделении добра и зла, истины и заблуждения. И тогда уже нет разницы, какие звуки издавать, что «озвучивать», на каком языке говорить – русском или английском, матерном или материнско-церковном: ведь церковь – это и есть духовная мать человечества» [Гореликов, Лисицына, 2001, с. 5].



