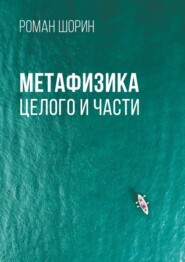
Полная версия:
Метафизика целого и части
Подобие, а точнее единство, общность обнаруживается совсем не так, как обнаруживается разность. Да и вообще, «обнаруживается» в данном случае – не совсем то слово. Если разность (наличие разного) фиксируется с внешней, наблюдательской позиции, то общность признаётся в качестве таковой тем, что наблюдатель перестает с ней разниться. Наша отдельность возможна как отдельность от чего-то тоже отдельного. Перед нашим взором может быть мир, представленный частями, но не мир, представленный целым. Ведь если бы мы могли лицезреть мир, представленный целым, это целое воспринималось бы нами наподобие части – хотя бы в силу нашей от него отстраненности. Мы же не просто так отстраняемся, а по причине: с тем, от чего мы отстранены, нельзя быть заодно. Нельзя в силу его условности, то есть имеющейся в нем лжи, ущербности, частичности – неполноты.
Окруженность не-разным (одним) подтверждается присоединением к этому единству. Если окружен не-разным, сложно, а точнее невозможно, отнестись к нему как к иному себе: его внутреннее единство оказывается не только внутренним, поскольку свидетельствует в пользу единства как такового. Говоря несколько иначе, разделенное с наблюдающим его неизбежным образом разделено-в-себе. В свою очередь, единое-в-себе только тогда едино-в-себе, когда вне его ничего (и никого) не осталось. Признание ненужности различать есть признание, что не с чем различиться в качестве различителя, выливающееся в неразличение себя и иного себе.
Я бы сказал, что отличение – это банальность, заурядность, рутина. И мы банальны, даже когда демонстрируем чудеса отличения и дифференциации, выявляя такие тонкие нюансы, что окружающие просто ахают. В свою очередь, опыты, когда наша различающая способность не была задействована, настолько неординарны, что именно их называют мистическими, невозможными, чудесными и т. д. И чем их меньше всего можно объяснить, так это нашей способностью, просто другой, не той, благодаря которой мы различаем. Хотя о своего рода чувствительности, присущей человеку, к тому общему или единому, что стоит за внешне разным, говорить, наверное, можно. К тому же это единое таково, что не может не втягивать в свою орбиту. Пусть наши жизни протекают в полусне, мы не в состоянии полностью игнорировать то обстоятельство, что всё, в сущности, есть одно. Как ни крути, мы тоже входим в это «всё», в это разное, чья разность условна.
И, по-видимому, эти невозможные и мистические опыты куда более связаны если не с нашим предназначением (этот термин несет в себе логику разделенного бытия), то с нашим сбыванием, с нашей сутью, только не бытовой (как обособленных существ), а бытийной, действительно соответствующей понятию сути.
Скажем, что позволяет отнестись по-человечески к представителю другой, не нашей касты, расы, веры etc.? Неразличение всех этих отличий. Мы как бы игнорируем их и только поэтому ведем себя по-человечески, то есть видим в другом такого же, что и мы сами (если не того же, что и мы сами). И именно в таком поступке не-замечания барьеров мы, собственно, сбываемся.
Как-то раз, по прошествии многих лет после окончания школы, я нашел старый снимок своего класса и, к изумлению своему, не счел нужным выделять кого-то из этих детей. Не выделять кого-то даже как себя! Все эти тридцать человеческих существ – ровно одно и то же. Нет никакой разницы, кто здесь я. Я мог бы быть любым из запечатленных на снимке (ну разве что за исключением девочек, если я – мальчик; но это уже детали, то есть та же аналитика). Я смотрел на фото и ощущал этих тридцать школьников даже не братьями и сестрами, а могущими свободно перетекать друг в друга существами.
Итак, пусть нет в нас способности к неразличению (в силу ее невозможности), но мы отзывчивы на сущностную или содержательную не-разность внешне или формально разного. Отзывчивы, поскольку причастны к ней. И с нами случается иногда неразличающее восприятие (назовем это так, хотя от собственно восприятия здесь остается крайне мало): когда мы воспринимаем, но не спешим с выводами и умозаключениями, с оценкой и наименованием, с соотнесением и классификацией, с разделением воспринимаемого на составляющие и выделением его из фона. Воспринимаем, но не определяемся с воспринимаемым, позволяя ему продолжать являть себя неизолированным, нерасчлененным, неназванным, неоцененным в ту или иную сторону – со знаком «плюс» или со знаком «минус». И тогда может произойти, например, такое, что воспринимаемое окажется иным, чем виделось поначалу (и мы, стало быть, правильно не спешили его определить), или вовсе развеется, как мираж, дымка. Либо может статься, что оно, наоборот, обернется всем, что есть, – вбирающей нас в себя бескрайностью, а значит прощай деление на воспринимаемое и воспринимающего. Всего-то пару мгновений неразличения, воздержания от оценок, и вот уже оценивать некому и нечего…
Иногда дают совет, который, увы, лишь с натяжкой можно назвать мудрым: «Не спешите делать выводы и раздавать оценки». Дело в том, что всякая оценка – проявление спешки. Когда бы ни была дана оценка, она дана рано, преждевременно. Различение торопится, опережает события, и это заложено в его природе. Другими словами, если не поспешишь «раздать всем сестрам по серьгам» или «расставить все по своим местам», то и вообще не станешь предпринимать такой расстановки. Если не поспешишь сделать выводы, то их вообще не будет сделано. По-видимому, именно спешка не позволяет вскрыться условности (если не сказать ущербности) оценивания и ранжирования как таковых. Не позволяет им, так сказать, саморазоблачиться.
Наверное, человек, с которым опыты неразличающих восприятий случаются чаще, чем обычно, может научаться продлевать их, сознательно предпочитать такое восприятие другому, различающему. Признаться, я знаю про это мало и не хочу фантазировать. В любом случае это опять же не стоит подавать как оттачивание навыка: наш вклад здесь заведомо ничтожен. «Наш» – как в данном случае обособленных и условно автономных акторов, способных к целеполаганию.
Поскольку безусловное или абсолютное неразличимо, мы можем сделать своей целью разве что его фантом. В этом смысле я немного лукавил, когда подавал присутствие в нашей жизни абсолютного и безусловного как «хорошую новость». На сознательном (здесь – различающем) уровне наша заинтересованность в том, чтобы в нашей жизни присутствовали смыслы абсолютного порядка, связана с подменой – с нашей заинтересованностью внешними сторонами абсолютных смыслов, в то время как таковых (их внешних сторон) попросту нет.
Наверняка вдумчивый читатель уже некоторое время испытывает недоумение: почему речь идет только об анализе (отличении одного от другого), ведь наш ум способен еще и на синтез? Однако синтез как группирование разного на классы и виды предпринимается лишь с одной целью – развивать различение дальше, выявляя специфику уже не единиц, а вышеупомянутых видов и классов. При этом на разность объединенного в группу или класс глаза закрываются притворно, чтобы через ее игнорирование выйти на более высокие уровни различения. «А как быть в случае, если наши умственные способности приводят к нас к объединению разного во всего одну, в единственную группу? Ведь в таком случае ее уже не с чем соотносить, выясняя особенности?» – может спросить кто-то. Действительно, группирование в один-единственный класс случается, особенно в философии. Возьмем, к примеру, понятие всеединства, как раз и предусматривающее включение всего в один и тот же раздел. Что с этим понятием не так? Во-первых, коль скоро раздел создан, то, очевидно, лишь для того, чтобы с ним разделяться. Скажем, разделяться с ним тому, кто его придумал. Автор группы «всеединство», пусть и не отдавая себе в этом отчета, планировал так или иначе ее – эту группу – анализировать, сопоставлять, как будто есть с чем. Он собирался выявить ее своеобразие, как если бы у единственного, что есть, оно может быть. Ну или, допустим, восторгаться группой «всеединство», трепетать перед ней. Однако поскольку этот автор еще более трепетно себя от этой группы отделяет (даже, чтобы восторгаться, нужно быть на расстоянии), в его чувствах будет недоставать искренности. Во-вторых, само конструирование понятия всеединства указывает на то, что речь идет о таком единстве, которое скорее раздроблено, нежели едино. Всеединство – это единство одного, второго, третьего, четвертого, пятого и т. д.
Также догадываюсь, что едва я упомянул про неразличающее восприятие, как сразу же подставился под упрек – хоть и несправедливый, однако отражающий сходство (но не тождество) высшего и низшего: «Уж не безразличие ли вы пропагандируете? И без ваших поползновений в обществе процветают апатия и умственная тупость. Вот с чем надо бороться, а не байки травить!»
Отвечу на это тем, что, по-видимому, есть три уровня. Есть уровень безразличия, апатии, умственной лени, неразвитости. Назовем его низшим. Далее идет уровень активного и успешного различения – назовем его средним. Высшим же является уровень, который со среднего уровня может выглядеть как безразличие, но таковым, разумеется, не является. Это уровень чуткости к тому единому, что стоит за внешней разностью; уровень безоценочного (беспристрастного) восприятия, когда склонность различать (проводить аналитическую работу) каким-то образом сдерживается. Именно на этом уровне человек сопричастен безусловному.
Будучи не в состоянии осмыслить то, что онтологически его выше (глубже, шире), различение видит иное себе более низким уровнем – более низким, чем уровень различения. Хотя разница между безразличием и восприятием без оценки и интерпретации не просто огромна – она максимальна. Безразличие – это вообще отказ воспринимать. В свою очередь, неразличающее созерцание требует куда большей собранности и экзистенциального напряжения не только по сравнению с безразличием, но и по сравнению с различением. Чтобы различать, не нужно собираться воедино. Мы не вовлечены в различение, что называется, всем своим существом. Этого не требуется. Зато всем своим существом мы вовлечены в то, что не предполагает своего различения. Например, в бытие как единство или целостность.
Да, различать важно, но это та важность, к которой можно применить ницшевское «человеческое, слишком человеческое». По большому счету, то, что мы теряем, не различая, немногого стоит. И если открытость безусловному и абсолютному назвать безразличием, то оно будет безразличием к различимому, то есть к тому, что относительно и условно. Но если кто-то безразличен к преходящему и мнимому, безразличен ли он? В свою очередь, упрек в безразличии к абсолютному и безотносительному попросту нелеп: как уже отмечалось, абсолютное и безотносительное не (без) различимы в принципе.
Если вы заметили, чуть выше я произвел различение – в частности, выделил три уровня восприятия. Да и вообще, без постоянных различений весь этот текст попросту бы не состоялся. «Ага! Значит, без различающей способности никуда! Стало быть, нечего ее обесценивать. Нечего возводить на нее напраслину и стыдить тех, кто ею дорожит. Если даже для ее критики вы к ней же и прибегли, значит, она – вне критики».
Увы, это не так. То, что я не смог к нему не прибегнуть, говорит не в пользу различения как высшей деятельности человека, а всего лишь о напрасности моих усилий и условности моих построений, представляющих собой попытку со среднего уровня описать уровень высший. Да, в отличие от плохих, слабых различителей, я отличил неразличающее восприятие от безразличия и даже поставил его выше уровня, на котором мы различаем. Но если бы неразличающее восприятие было для меня действительно выше, чем восприятие различающее, я бы сейчас его и «практиковал». Вместо этого я зачем-то остался на уровне различения и с него, с этого уровня, веду рассказ об уровне более высоком. Тем самым показываю свой действительный выбор (тот, который не на словах, а на деле), а именно выбор в пользу уровня различения.
Своими построениями я демонстрирую лишь одно – до какой профанации можно дойти, оттачивая свою различающую способность. Например, постулируя его полную неразличимость, различить абсолютное, безусловное, безотносительное. Или то, что есть само по себе. Более того, догадаться о единстве бытия, умело «считав» соответствующие интуиции, правда крайне формальным образом. Однако единое бытие, о котором догадалась различающая способность, – это не более чем очередное различенное. Будучи выделенным, это якобы завершенное целое начинает страдать всеми «болезнями» выделенного: предполагать контекст и выводиться из него, определяться через соотнесение с чем-то иным, подпадать под оценивание и так далее. То есть быть чем-то, крайне далеким от завершенного целого. Целостность, которая обнаружена путем различения, опровергает себя как целостность.
В действительности все то, о чем я пытался сообщить, «и так ясно» (без всяких построений). Парадоксальным образом то, что я пытался сделать понятным, не нуждается в понимании. Скажем, не нужно понимать про различение, что оно соприкасается исключительно с тем, что условно и относительно. Ведь если это понято, то понято посредством различений, а значит – не понято. Не нужно понимать, что бытие есть единое целое, потому что если это так, то понимать здесь нечего и некому (и блистательный Гераклит, увы, ошибался: нельзя знать все как одно). Не нужно понимать, что абсолютное не взаимодействует с нами, но нас замещает. Ведь если это так, то это не наше дело и не наша забота.
И мало сказать, что попытка полемики с поборниками различения на их поле и по их правилам заведомо обречена, – она сомнительна уже с точки зрения своей цели. Ведь даже если поборники различения разочаруются в нем, так только на словах. К тому же поборник неразличения (неразличающего восприятия) будет, пожалуй, еще более слабой фигурой, чем его оппонент. Неразличающее восприятие невозможно сделать своей доктриной или мировоззрением, разве что пародию на него.
Может показаться неутешительным, что единственно возможный дискурс – это дискурс различения. С другой стороны, само желание вместить в этот дискурс в него невместимое говорит о том, что для имеющего такое желание дискурс различения все еще родной, а то, что он хочет в него вместить, – пока еще чужое.
Будь иначе, он не жалел бы о том, что сообщить можно только о различении и что всякая коммуникация – это коммуникация тех, кто различает. Его не подмывало бы вставить в дискурс свои пять копеек; его не тяготило бы то, что он вынужден помалкивать в соответствии со знаменитым, загадочным и, надо сказать, небезупречным принципом Витгенштейна «о чем нельзя говорить, о том следует молчать». Он бы молчал спокойно, молчал с удовольствием, а доносящиеся до него коммуницирующие голоса, этот шум дискурса воспринимал бы наподобие далекого шума проезжающих машин…
Похоже, пора закругляться. Мой теоретический (воображаемый) практик неразличающего восприятия начинает различать шум проезжающих машин, а я, соответственно, все более противоречу сам себе, продолжая и продолжая теоретизировать (а значит, и различать). Всё, замолкаю, пусть это и будет в большей степени попытка прервать самого себя, нежели то спокойное молчание, о котором я зачем-то попытался поговорить. Впрочем, закономерно, что попытался; как закономерно и то, что попытка не удалась.
Завершенное
Какое-то время назад я испытывал пиетет к тому, что в нашей культуре обозначается как завершенное, законченное, целостное. Если о чем и стоит философствовать, так только об этом, решил я. И мне представлялось, что именно завершенность – главное в завершенном, именно законченность – главное в законченном и именно целостность – главное в целостном.
«Завершенное» – у меня, если честно, даже сердце замирало при произнесении этого и подобного ему слов вслух или про себя: еще бы, ведь, как мне казалось, если вдуматься в этот термин как следует, то откроется вся глубина – самая сердцевина – того, что им обозначено.
«Только представьте себе: завершенное! Осознаёте, насколько это замечательно? Чувствуете, насколько это существенно? Какое специфическое, удивительное свойство – завершенность! Оно явно не должно пропасть втуне, ему явно необходимо воздать должное! О нем должно быть известно, известно всем – мне, вам да и самому́ завершенному, если представить, что оно обладает сознанием, имеет природу субъекта». Некогда я готов был восклицать так подолгу. Но с той поры, как говорится, много воды утекло.
«Видишь ли, – сказал бы себе тогдашнему я теперешний, – завершенность того, что ты называешь завершенным, – это, можно сказать, мелочь. По сравнению с основным, центральным качеством обозначаемого тобой как завершенное».
«Какое же это качество? Говори скорее, не томи!» – слышу я себя тогдашнего и чувствую, как он весь обращается в слух.
«А вот какое. Обозначенное тобой как завершенное – никакое. Что? Не восторгаешься? Даже не стремишься этого качества отметить? Не переживаешь, что оно останется незамеченным, безвестным? Не считаешь трагедией то, что этого никто не узнает, даже оно само? Допустим, оно не знает, что оно – никакое; допустим, мы не знаем, что оно – никакое. Ну так и ладно. Если оно никакое, то знать, выходит, нечего. Разве что-то теряется от незнания, какое оно, если оно – никакое? Ты внимаешь ли? Что с тобой? Ты растерян, смущен?»
Впрочем, я ринулся с места в карьер, а это нехорошо. Лучше двигаться размеренно.
Итак, что изменилось с тех пор, когда от самого слова «завершенное» я впадал в трепет? Однажды я наконец увидел, что столь дорогая мне характеристика рождена в результате не вполне оправданной операции, а именно – сопоставления, соотнесения. Завершенное является таковым в сопоставлении с недоделанным, частичным, промежуточным, половинчатым. Завершенное является таковым в пику незавершенному. И если частичного и половинчатого рядом с завершенным не ставить, его завершенность теряет свою актуальность, перестает иметь значение, отступает на задний план и еще дальше – за линию горизонта.
А если ставить, то, соответственно, наоборот. Стало быть, ставить или не ставить – вот в чем вопрос. Впрочем, не такой уж и сложный. Не в том ли выражается завершенность завершенного, что оно «вправе» быть само по себе, не нуждаясь в соотнесениях и не выводясь через что-то иное? Завершенному явно должно быть достаточно самого себя: если оно нуждается в привлечении чего-то стороннего, о завершенном ли идет речь? Завершенное не будет таковым без свободы от контекстов. Это целый, цельный мир, то есть фактически всё, что есть; а всему попросту не с чем сопоставляться или сравниваться.
По прошествии времени, поостыв, я не мог не обнаружить, что восклицаниями «завершенное, завершенное!» подчеркивается не что иное, как отсутствие недоделок, лакун, изъянов. В таком случае закономерен вопрос: какой смысл напирать на отсутствие изъянов, коль скоро с ними действительно покончено? Всё, их нет; и раз это действительно так, нечего про них даже вспоминать, нечего к ним возвращаться.
Понятия завершенного, подлинного, воплощающего собой полноту только выглядят положительными, утвердительными, самостоятельными. В действительности все они зависимы и указывают не на то, что есть, а на то, чего в том, что есть, нет. Завершенное – не более чем не-недоделанное; подлинное – всего лишь не-мнимое; полное – ущербное, просто в обратном смысле.
Подлинно завершенное должно быть выше своей завершенности, должно ее преодолевать, отбрасывать. Больше того: преодолевая свою завершенность, то есть выходя из сопоставления с ущербным, оно выходит из мира объектов и феноменов, вообще переставая быть чем-либо, явлением-в-мире. Оно как будто прекращается, пропадает с радаров, перестает выпячиваться, выделяться, собираться в «нечто». В общем, говоря «подлинно завершенное», мы ведем разговор если не про ничто, то уж точно не про что-то. Подлинно завершенным быть нечему. Нечему из числа чего-то. А то, что не входит в число «чего-то», тоже не может быть подлинно завершенным, потому что таким-то может быть только «что-то».
И здесь я чуть не добавил, что не быть чем-то – значит быть никаким. Самое время признать, что когда я смеялся над собой – поклонником завершенного, я ввел в заблуждение и его, и себя. «Никаковость» – это вовсе не центральное качество абсолютного бытия. Ведь даже никаким должно быть что-то (что-то более или менее определенное). Качества и характеристики могут быть исключительно относительными. Абсолютных характеристик не бывает. Органичней, чтобы никаким было не нечто, а ничто. Нечто всегда какое-то. Однако про ничто, равно как и про «большее, чем что-то», уже не скажешь, что оно – никакое. Потому что говорить здесь не про что: нет того, про чью «никаковость» можно говорить.
И нам нечего знать про «завершенное» (за неимением лучшего варианта беру этот термин в кавычки), и ему самому нечего знать про себя. И закономерно, что ни нас, ни его самого напротив того, про что нечего знать, нет. Можно быть по отношению к себе как к чему-то, но не по отношению к себе как к растаянности, невыделимости, ни-во-что-не-собираемости.
В общем, став со временем более или менее честным и напористым в своих философических штудиях, я сделал аж два шокирующих открытия. Первое из них состояло в том, что завершенность – периферийный, если не дальше, аспект «завершенного». Второе заключалось в том, что никакого «завершенного» – как того, чему можно приписать какие-либо качества, – нет вовсе.
Признаться, оба эти открытия оказались пробуксовкой на месте, ведь вышеозначенное отсутствие продолжало маячить передо мной именно как объект или внеположность. Чтобы такой лжеобъект прекратил свое существование, требуется – ни много ни мало – чтобы прекратился и его субъект, то есть я, под стать своему объекту столь же ложный и надуманный.
На то, что с субъектом «большего, чем что-то» явно есть проблемы, указывают, например, странности, на которых я ловил себя по ходу сочинения этих заметок. Так, заявляя о невозможности как-либо охарактеризовать завершенное да еще подкрепляя свое заявление столь сильным основанием, как «было бы что характеризовать», я испытывал то, чего не должен бы испытывать, а именно так называемую радость познания: кто-то во мне по-прежнему полагал, будто подобного рода открытиями продолжает постигать, пускай уже неведомо что и даже вообще «не что-то». Даже отмечая про так называемое завершенное, что ухватиться в целях выведения его характеристик здесь не за что, я словно бы что-то схватывал, нащупывал.
Как ни странно, в том, что это так, убеждала не только мысль, но и сенсорика – ощущение, что я действительно вкапываюсь вглубь, действительно преодолеваю поверхностный слой и иду дальше. Ощущения и чувства обычно надежны, они не подводят, и единственное, в чем «ошибается» данное конкретное ощущение, так это в том, вглубь чего я вкапывался.
Я действительно глубже вникал – чувство не обманывает, – правда, всего лишь в то, что выше было названо внешними, незначимыми и несуществующими аспектами (даже «нечтойность» – пример такого несуществующего аспекта). Ощущение движения вглубь имело место, однако ощущение «не понимало», что удостоверяет не более чем движение вглубь несущественного, что преодолена не вся поверхность, а всего лишь кромка поверхностного слоя, который может иметь свою глубину. Такая невольная и даже забавная иллюзия. А вот что совсем не забавно, так это уверенность «кого-то во мне», будто, вскрывая нечто как ничто (как «не что-то»), я продолжаю это нечто постигать, хотя, по идее, от него (как от чего-то) уже ничего не осталось.
Загадочная несоразмерность
(Почему от исполнения наших желаний мы всегда получаем меньше, чем ожидали?)
Одно из самых поразительных открытий, которое я, впрочем, совершил отнюдь не как действующее лицо, настойчиво прорывающееся к новому, а как тот, кому жизнь преподносит свои уроки, не спрашивая, имеется ли в них заинтересованность, связано с мечтами и их воплощением. Замечу сразу, что все наши мечты подразделяются всего на два вида: мы хотим либо нечто заполучить, либо, напротив, от чего-то избавиться. Так вот, для меня было настоящим открытием обнаружить, сколь ничтожно мало дает исполнение желаемого по сравнению с ожидаемым эффектом. Вернее, в сравнении даже не с ожидаемым эффектом, а с той интенсивностью, которая отличала мечту, покуда еще не реализованную.
Говоря проще, я, как правило, весьма сильно и длительно хочу что-то приобрести или чего-то лишиться, однако как только мечта воплощается в жизнь, удовлетворение от сего факта неизбежно оказывается скупым, бледным и скоротечным.
И дело далеко не только во мне. Взять хотя бы Василия (введу в повествование героя, пусть это и не принято в рамках философского эссе). Однажды перед ним замаячила реальная перспектива попасть в тюрьму. На год-два, но все-таки в тюрьму. Как же он возжелал, чтобы этого не случилось! Опасность оказаться за решеткой была невелика, но была. В принципе, чаша сия должна была миновать его. Но ее пришлось бы испить, сложись пара обстоятельств неудачным образом. «Лишь бы повезло!» – молил он, взращивая эту мечту до невероятных размеров. И мечта сбылась. Тюрьмы не будет, вольная жизнь продолжается. И что бы вы думали? В тот же вечер Василий сидел грустный и понурый – каким, впрочем, и был обычно, – с недовольной гримасой встречая взглядом блюда, подаваемые на стол к ужину. Понятно, что это его привычное состояние. Но разве ради такого случая, когда оправдалась столь большая надежда, нельзя было от души порадоваться? Пускай всего вечерок…

