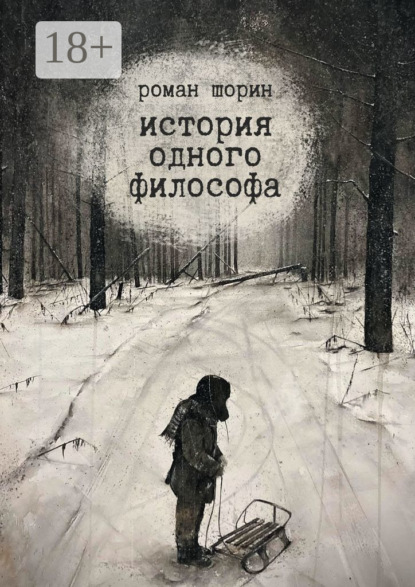
Полная версия:
История одного философа
«Мне все равно», «мне все едино». Подобные реплики могут означать, что человеку все ра́вно важно, ра́вно интересно, ра́вно ценно. Однако мало кто обратит внимание на возможность именно такой интерпретации, в то время как, согласитесь, она имеет право на существование. Всюду жизнь, как назвал свою картину небезызвестный художник. Всюду жизнь, поэтому мне довольно того, что наличествует здесь и сейчас. Всюду жизнь, поэтому я принимаю то, что выпало судьбой. Всюду жизнь, поэтому меня завораживает буквально все. Всюду жизнь, поэтому я не хочу менять ни место, ни время. Всюду жизнь, а, стало быть, нет ничего, что следует отвергнуть, как и нет ничего, что следует предпочесть. Всюду жизнь – и в малом, и в большом; и там, где лежит снег, и там, где зеленые луга или желтые степи; и в среде аристократов, и в среде фермеров.
«Мне все равно». Как по мне, так это выражение предельной чуткости. «Мне все равно», – это же и есть та самая мудрость, которую так воспевают. Впрочем, если следовать излагаемой здесь идее, это лишь начало мудрости. Ее вершина – это когда и сам единишься с тем, что делает все одним и единым. После чего произносить те или иные реплики становится попросту некому.
От эгоцентрика слышу!
– Вчера я был на выступлении одного астронома, и он весьма любопытным образом объяснил причину, почему ему хотелось бы, чтобы на других планетах Солнечной системы или в других галактиках была обнаружена жизнь. Он сказал так: «Если я буду знать, что жизнь есть где-то еще, я буду не так сильно переживать насчет того, что мы можем погубить нашу планету, уничтожить здесь все живое, включая и нас самих. У меня будет утешение, что конец жизни на Земле не будет концом жизни вообще».
– Как тебя туда занесло? Лично мне вопросы вроде «одиноки ли мы во Вселенной?» не близки, есть куда более интересные темы.
– Знаешь, меня тоже подобные вопросы интересовали исключительно в детстве. А на встрече с астрономом я оказался случайно. И я сейчас не про планеты и галактики собрался поговорить. Я вдруг понял, что заявление астронома хорошо накладывается на такое явление, как эгоцентризм. Почему эгоцентрик так держится за себя, за свою жизнь? Потому что он не видит, не чувствует, что в других тоже есть жизнь, что другие люди или любые другие существа – это тоже жизнь. Эгоцентрику мнится, что если что-то случится с ним – под угрозой окажется жизнь вообще, жизнь как таковая. И если ему удастся обнаружить, что его окружают такие же живые существа, как и он, что жизнь струится повсюду, а не только через его кровеносную систему, он уже не будет носиться с собой как с писаной торбой, не будет прикован к себе максимально жестким образом. Предпосылка эгоцентризма, да и эгоизма тоже – это не «я есть», но «только я – есть». Отсюда и столь сильное беспокойство за свое благополучие.
– Такая смена сюжета мне по душе. Но не спеши радоваться. Это лишь начало моей реакции на твое прозрение. А продолжением будет следующее: ну ты и эгоцентрик!
– Что? Я кое-что понял про сущность эгоцентричности и поэтому я эгоцентрик? Бред какой-то!
– Позволь мне объясниться. Согласись, что наши самые глубокие прозрения делаются все-таки не тогда, когда мы наблюдаем за другими людьми. Материал для наших самых важных выводов – это мы сами. Это прежде всего наша собственная, а не чья-то еще жизнь. Мы разобрались с чем-то на сущностном уровне, когда разобрались с этим в себе.
– Соглашусь.
– А значит, тебе придется согласиться и с тем, что, когда ты прозрел сущность эгоцентризма, ты прозрел ее на материале своего собственного эгоцентризма. Потому-то я и воскликнул: ну ты и эгоцентрик!
– Я и не утверждаю, что являюсь образцом открытой, распахнутой души. И ты прав, я увидел, в чем состоит самообман эгоцентризма и эгоизма, на материале прежде всего своей собственной жизни, в которой эгоцентризм и эгоизм были и, конечно, все еще остаются. Однако понимание, которым я с тобой поделился, смею верить, принадлежит лучшей части меня. Я возвысился над эгоцентризмом, когда увидел, на чем он зиждется. Так что твои замечания по-прежнему представляются мне бредовыми.
– Хочешь сказать, что ты взглянул на эгоизм из или с позиции того, кто на себе не центрирован?
– Можно сказать и так.
– Но эгоцентрик и тот, кто не сводит всю жизнь к своей жизни, не пересекаются. Даже если живут в одном человеке. Великодушие или открытость знаменуют собой преодоление эгоцентризма, его конец. Если сейчас актуализировалась чуткая, эмпатичная душа, от эгоизма не осталось и следа. Он весь вышел. Ликвидировался. И не про что делать выводы. Потом, эмпатия есть не что иное, как не-разъединение с остальной жизнью. В таком случае у не-эгоизма нет границ, ведь он ограничен лишь тем, чего нет, что мертво. Не-эгоизм не знает чужого, иного себе. Не-эгоизм не имеет противоположности, пусть я и образовал это слово так, что оно выглядит явно несамодостаточным.
– Если я правильно тебя понял, во мне могут жить эгоцентрик и тот, кто не зациклен на одном себе, просто они не могут жить во мне одновременно. И когда на сцене бытие-как-открытость, ему, пока оно на сцене, нечего наблюдать как свою противоположность.
– Спасибо, что следуешь за мыслью.
– Не за что. Однако имеется другая возможность. Из не-эгоизма можно наблюдать за эгоизмом как за воспоминанием. Допустим, вчера я вел себя как распоследний эгоист, а сегодня веду себя как первый не-эгоист. И сегодня я могу вспоминать про себя вчерашнего, делая соответствующие выводы.
– Нет, не можешь. Некто перестал быть эгоистом. Что это значит? Что эгоизма для него больше не существует. Что он теперь от эгоизма свободен. Не-эгоист не имеет корней в предшествующем его появлению периоде. Он не имеет отношения к тому, кто был здесь до него. Тот не передавал ему эстафетную палочку. Когда этот пришел, того уже не было. Будь наоборот, перед нами было бы продолжение эгоизма, а не его преодоление.
– Ты отрицаешь саму возможность памяти? Это, мягко говоря, странно.
– Можно помнить, какую рубашку ты вчера надевал. Потому что это извне верифицируемый факт. Однако никакое внешнее описание человека не позволит нам понять, эгоист перед нами или нет. Если с тобой произошла сущностная трансформация, если ты поменялся внутренне – это все равно что ты заново родился. А что помнить новорожденному? Да, бывает, что мы интересуемся, кто жил в нашей квартире прежде. Ведь это может иметь значение. Но если все обнулилось и история началась заново, то нет никакого реального основания (вс) поминать того, кто был в этом теле до меня. Мы приходим в музеи посмотреть на предметы старины, но почему? Потому что чувствуем свою связь с предками и с атрибутикой их быта. В свою очередь, эгоистическое или эгоцентрическое существование – для того, кто его преодолел, – не привлечет внимания даже в виде экспоната, реликта. Да и как уделить ему внимание, если полностью захвачен другим? Тем более если это другое – поистине не знает пределов. Как ты сам минуту назад выразился, «сегодня я веду себя как не-эгоист». «Веду себя», то есть это процесс, активность. В чем она состоит в случае с не-эгоистом, в чем проявляется то, что он ведет себя как не-эгоист? В переживании своей общности со всякой жизнью, в нахождении себя во всякой жизни, в ненахождении причин отделяться от остального, в утверждении жизни как единого целого. А это весьма интенсивный процесс. Тут явно не до воспоминаний. Кстати, поправлюсь: не находить причин отделяться от остального – значит и не воспринимать его как остальное.
– Понятно. В смысле, понятно, к чему ты клонишь. К тому, что если имеет место наблюдение за эгоизмом, то оно производится из эгоизма же.
– Примерно так.
– В таком случае имею сказать следующее. Ты изобличил меня как эгоиста и эгоцентрика, не поддавшись на мои, казалось бы, верные замечания относительно сущности эгоцентризма. Однако почему тебе это удалось? Почему, несмотря на то, что я хорошо замаскировался, тебе удалось меня разоблачить? Результат ли это наблюдения за другим человеком? Ведь ты прав: другой человек не будет материалом для по-настоящему глубоких инсайтов. И даже если дело выглядит так, будто мы поняли что-то важное про другого человека, мы прежде всего поняли это про самих себя. Мы с собой разобрались, что и позволило нам разобраться с другим или другими. Итак, ты упрекнул меня в эгоцентризме? От эгоцентрика слышу!
– Блестяще! Ты меня не просто поддел, а, что называется, вывел на чистую воду. Если честно, мне даже стало немного стыдно за свою слепоту относительно бревна в моем глазу.
– Позволю тебе немного реабилитироваться, потому что у меня появился вопрос, на который я пока не вижу ответа. Ответишь – и последнее слово будет за тобой.
– Хорошо, задавай.
– К этому моменту мы с тобой не только об эгоизме поговорили, но и о не-эгоизме. А что, если бы я завел разговор именно о последнем и только нем? Ты бы тоже упрекнул меня в эгоизме?
– Да, разумеется. Кто рассуждает о не-эгоизме, тот разделяется с ним. А разделением, сепарацией занимается именно эгоист. За тем или иным умозаключением по поводу не-эгоизма будет стоять нежелание присоединиться к нему. Точнее, пока ты рассуждаешь о не-эгоизме, ты избегаешь того, чтобы ему открыться.
– Хорошо, пусть так. Поскреби рассуждающего о не-эгоизме, и ты найдешь эгоиста. Однако это мы говорили про того, кто смотрит на не-эгоизм со стороны. А как быть с тем, кто находится внутри не-эгоизма, то есть кто не эгоистичен? У него имеется хоть какое-то самосознание? Он хотя бы знает себя как человека с открытой душой?
– «О, да я недурен собой», – отмечает кто-то, глядя в зеркало. Зачем он это делает? Потому что это может пригодиться. Потому что из своей внешней привлекательности можно что-то извлечь. В общем, отмечают то, что имеет внешнее приложение. Вернемся к не-эгоисту, который, в частности, потому не-эгоист, что ему ничего не надо от своего не-эгоизма. Он является не-эгоистом бескорыстно. Стало быть, он не смотрит на свой не-эгоизм извне. «О, а ведь я – человек с открытым сердцем», – такого рода констатаций не бывает. Потому что нет зеркала, в котором это можно увидеть. У открытости нет отражения вовне. Разве что у ложной, показной открытости. Кто добр не ради какой-то внешней цели, тому незачем регистрировать свою доброту. И потом, если у кого-то открытая, распахнутая душа, ему не локализовать себя, чтобы приписать этой локализованной экзистенции такое качество, как открытость. У жизни как целого границ нет.
– И мы почему-то верим, будто смотрим сейчас на это не имеющее границ целое.
– Хуже того, мы полагаем важным ненароком не вовлечься в это целое, а то ведь, чего доброго, двумя эгоцентриками станет меньше.
Отличным способом закрыться от смыслов этого диалога будет: «Автор не видит разницы между эгоизмом и эгоцентризмом, постоянно смешивает эти понятия, а ведь в психологической литературе уже давно»… Какая страшная беда – иметь не отточенную различающую способность! Однако как тут не вспомнить, что именно на различении – в данном случае на различении «я» и «не я» – базируются как эгоизм, так и эгоцентризм.
Кстати сказать, я ничего не имею против невосприимчивости к моим текстам. Но только если это другая невосприимчивость – не та, которую демонстрирует специалист по психологической литературе. Я только приветствую, если кто-то не воспринял прочитанное, потому что более восприимчив не к опосредованным, концептуальным смыслам, а к смыслам непосредственным.
Еще более я приветствую того, для кого эмпатия, открытость настолько уместна и органична, что теоретизировать о ней – значит превращать ее в то, чем она не является, в нечто нарочитое. Хотя, конечно, если он прислушается к моему привету и одобрительно кивнет в ответ, высок риск, что он окажется в том же болоте, в котором застрял автор этого искрометного диалога.
Сигнал
Воздадим должное Марку Аврелию пространной цитатой из его медитаций.
«До какой низости и лицемерия нужно дойти, чтобы сказать: „Я намерен быть искренним в отношениях с тобой“? Что делаешь ты, человек? Не следует предупреждать об этом. Это выяснится само собой. Содержание твоих слов должно быть запечатлено на твоем челе. Ты таков и тотчас же твой взор выдаст это, как возлюбленный тотчас же читает все в глазах любящего. Вообще, человек искренний и хороший должен быть подобен потливому, чтобы ставший рядом с ним волей-неволей почувствовал его, лишь только к нему приблизится. Искренность же, выставляемая напоказ, опасней кинжала. Нет ничего омерзительнее волчьей дружбы. Избегай ее более всего. Человека хорошего, благожелательного, искреннего узнаешь по глазам, этих свойств не скроешь».
Итак, имеется целый ряд сообщений, в которых нет никакого смысла, если, конечно, вывести за скобки желание обмануть, создать ложное впечатление. То, что сообщается этими сообщениями, должно быть «и так ясно», то есть ясно без слов и объяснений. Приведу несколько примеров.
«Я люблю тебя, я тебя уважаю, я тобой дорожу». «Я изменился в лучшую сторону – стал добрее, человечнее, спокойнее». «Я переживаю покой, гармонию в своей душе». «Я умею жить полной жизнью». «Я – открытый, искренний человек». «Я человек честный, не предам, не обману, не ударю в спину». «На меня можно положиться, мне можно довериться, со мной можно пойти в разведку». «Я с тобой совершенно откровенен». «Я не отношусь к тебе как к средству достижения своих целей, я тобой не манипулирую». «Если я помогу тебе, то совершенно бескорыстно». «Со мной ты можешь чувствовать себя совершенно естественно, быть самим собой».
Заканчиваю приводить примеры, поскольку у меня уже возникло ощущение, что лично мне было бы более чем достаточно всей этой информации, познакомься я с новым человеком. В самом деле, что нам еще нужно, если мы уже убедились, что оказавшийся рядом с нами человек честен и порядочен, что ему можно доверять, что он не держит фиги в кармане? Всё, можно, как говорится, расслабиться и получать удовольствие. А ведь вся эта информация «считывается» без слов. Точнее, чтобы мы «считали» всю эту информацию о человеке, нам достаточно посмотреть ему в глаза. От него не требуется произнесения слов. Более того, тут вообще нет информации и ее «считывания», однако об этом ниже.
Конечно, столь же бессмысленны отрицательные утверждения, в которые можно обратить приведенные мной примеры. «Я тебя ненавижу». «Я изменился в худшую сторону – стал злее, суетливее». «Я не умею жить полной жизнью». «Я жалкий врун». «Я предам тебя при первой возможности». «На меня нельзя положиться, я очень скользкий тип». Просто такое и не произносится. Такое обычно скрывают. А вот подобное «я люблю тебя» произносится сплошь и рядом.
В общем, мы имеем следующее. Все самое важное о себе человек «сообщает» без посредства речи. Вы по-прежнему восхищаетесь мнимо бесконечными возможностями языка и поклоняетесь слову, ой, простите, Слову, которое якобы было в начале? Увы, похоже, речь существует для выражения тривиального. Сущностное «выражает себя» без какого-либо посредничества. Ему не нужен инструментарий для того, чтобы быть узнанным, понятым. И, по-видимому, это связано с тем, что ему не нужно и это тоже – быть узнанным, понятым и «считанным».
Когда мы встречаем того, кто нас любит, мы вовсе не уходим в позицию стороннего наблюдателя, чтобы оценить чувства этого человека со стороны: «Ага, этот человек, судя по всему, испытывает ко мне сильнейшую приязнь». Нет, мы реагируем на его открытость по отношению к нам собственной открытостью по отношению к нему. Другими словами, мы «понимаем», что нас любят, когда вовлекаемся в эту любовь. Кстати сказать, воспринять любовь именно как любовь со стороны невозможно чисто технически, поскольку внеположное может быть чем угодно, только не любовью. То, что через наше стороннее за ним наблюдение позиционируется как отдельное к нам и по отношению к чему мы позиционируем себя как нечто отдельное тоже, априори не может быть любовью.
«Я умею жить полной жизнью». Полагаю, это тоже невозможно увидеть, это тоже невозможно «считать», как «считывают» информацию, осуществляя наружное наблюдение и делая соответствующие выводы. Мы «считываем», что человек живет полной жизнью, когда к ней приобщаемся, потому что со стороны можно увидеть только как живут усеченной, ущербной жизнью, ведь только такая жизнь отчуждает от себя. Короче говоря, никто здесь ничего не «считывает», здесь нет взаимодействия двух сторон, потому и не нужны инструменты, чтобы это взаимодействие было эффективным.
«На меня можно положиться, мне можно довериться». То же самое. Происходит не так, будто сначала мы выясняем, что человеку можно довериться, а потом доверяемся ему. То, что человеку можно довериться, означает, что он не отделяет себя от нас, не отделяет свои интересы от наших, потому что если он их отделяет, то в критический момент он выберет свои интересы, предав наши. Однако если человек не отделяет себя от нас, как мы это понимаем? Ответ парадоксален, но верен: мы этого не понимаем. Мы не производим мыслительных операций на сей счет. Если человек не отделяет себя от нас, мы «признаем» это обстоятельство, тоже прекращая отделять себя от него. В общем, тому, кому можно довериться, мы сразу же себя доверяем. В этом доверении себя и проявляется то, что зачем-то описывается словами «я увидел его как надежного человека».
«Я с тобой совершенно откровенен». Это вообще недвусмысленное указание на то, что я отношусь к тебе так, как к себе, вернее, так, как будто ты – продолжение меня. Однако нужно ли на это указывать? Если кто-то воспринимается мной как продолжение меня, мне уже, стало быть, некому говорить: «Я рассматриваю тебя как продолжение себя». Кроме того, это будет очевидной ложью, ведь рассматривать, то есть смотреть на кого-то изучающим взором – это уже означает видеть в нем иное, чужеродное, такое, чье начало есть твой конец (или точка чьего начала есть точка твоего конца). Итак, если я с вами откровенен, вы «признаете» это, вовлекаясь в мою откровенность, проявляя ответную откровенность, при этом в вашем уме не происходит ничего – никаких признаний вроде того, как мы признаем в прохожем пожилом человеке приятеля нашей молодости. К слову, когда мы проявляем ответную откровенность, она – эта ответная откровенность – оказывается той самой первой откровенностью, то есть откровенностью, проявленной по отношению к нам. Точно так же ответная любовь ничем не отличается от любви, на которую ответили любовью. Ответная открытость – это присоединение к проявленной открытости, а не новое, отдельное образование. Две открытости проникают друг в друга, и остается открытость как одно, единое.
Кто-то предложит «признал» заменить на «почувствовал». «Я почувствовал, что передо мной – совершенно искренний человек». Увы, эта замена ничего не меняет. Мы чувствуем или ощущаем, как нечто отражается на нас, как оно на нас сказывается. То, как мы ощущаем нечто, с чем вступили в контакт или в соприкосновение, есть производимый им внешний эффект. Однако искренность, во-первых, не предполагает внешнего эффекта. Во-вторых, когда имеет место соприкосновение, соприкасаются две не-равные друг другу, отличающиеся друг от друга стороны. В свою очередь, встреча с откровенным, искренним человеком или, лучше сказать, встреча с искренностью (зачем зацикливаться на носителях?) оказывается чем-то иным, нежели собственно встреча, контакт. В самом деле, можно ли встретиться с тем, что или кто не разделяет свои и твои интересы, можно ли контактировать с ним? Я отношусь к вам, как к самому себе… Нет, это негодные слова. Ведь мы к себе не относимся, мы себе равны. Если я откровенен с вами, я с вами такой же, какой я наедине с само собой. Это тоже негодные слова, и те, кто суммировал, свел записи Марка Аврелия под заголовок «Наедине с собой», были не совсем правы, поскольку этим выражением явно подразумевается разъединение единого. Вот третья, пожалуй, более удачная попытка: то, что я откровенен с вами, означает, что я забираю вас из внешнего пространства, и уже некому ощущать и чувствовать, как моя откровенность преломляется вовне.
Выше я писал, что сущностное «выражает себя» без какого-либо посредничества. Теперь настало время пояснить происхождение кавычек, в которые взято два слова из этого утверждения. Сущностное не выражает себя. В том смысле, что никуда и никому себя не являет. Сущностное, настоящее, встречая нас, вовлекает нас в себя, как вовлекло бы нас в себя единственное, что есть. Вообще-то, сущностное и есть единственное, что есть. Так, моя сущность – это то, что есть во мне реального. А реальное – это то, что одно только и есть.
Если злой человек или, опять же, просто зло отталкивает, то добро притягивает, потому что в добре присутствует открытость (хотя, может, лучше сказать, что в открытости присутствует добро?), и эта открытость выводит из внешних отношений с ней. А внутренних отношений не бывает: то, что есть как внутреннее, есть как единое. То, с чем мы сегрегированы, всегда находится вовне. К слову, вполне можно сказать следующее: «Я разглядел его как злого человека, и это оттолкнуло меня от него». А вот сказать нечто зеркальное про добро нельзя. Ведь пока вы разглядываете человека, который добр, вы вряд ли находите в нем доброту. Вы будете находить в нем доброту в той мере, в какой будете этой доброте открываться, в какой обнаружите ее как проникшую внутрь вас и даже как жившую там всегда. При этом никто ничего не найдет и не обнаружит.
Слова «понятное без слов» не отражают сути дела, потому что здесь нет двух сторон: пославшего сигнал и принявшего сигнал. Нет такого сигнала, как «я искренен с тобой». Поэтому его не надо и понимать, «считывать». Если «я искренен» означает «бескорыстен, открыт», то это был бы сигнал «я открыт по отношению к тебе», и как сигнал он всегда был бы ложью, то есть сигналом «я закрыт по отношению к тебе».
Некому адресовать сообщение «У меня нет интересов, отдельных от твоих интересов». Во всяком случае, того, кому такое можно было бы адресовать, точно нет там, куда посылают сигналы. Специально подаю немножко разные сигналы, чтобы быть воспринятым так или иначе.
Я и бесконечность
«Если бесконечность есть, то меня нет. А если я есть, то бесконечности нет». Такую формулу вывел Григорий Померанц, когда еще был юношей, и на несколько месяцев она стала для него вызовом, проблемой, требующей своего разрешения.
В своих воспоминаниях Померанц специально уточняет, что под бесконечностью он имел в виду материальную Вселенную, физическую бесконечность времени и пространства, в которой человек и планета, на которой он живет, теряются, превращаются в настолько малое, что его можно счесть за ничтожное. Окружающий мир разверзался перед юным философом как поглощающая бездна, поглощающая именно в смысле ничтожения. Однако шли годы, и дальнейший жизненный опыт показал, что внутри физической бесконечности вполне можно жить, отнюдь не чувствуя себя ничтожеством, отнюдь не погибая, не аннигилируя. Мир не сминает тебя в бесконечно малую точку, не раздавливает тебя как букашку. Твоя жизнь протекает, складывается, имеет место – ты можешь удостоверяться в этом ежедневно и ежечасно.
Лично мне подобного рода переживания не близки, однако я не собираюсь их обесценивать. Я привел здесь формулу Померанца с другой целью. Дело в том, что она «работает» и применительно к метафизическому миру. При этом, будучи помещенной в метафизический контекст, она уже не выглядит пугающей, проблемной или травмирующей.
В самом деле, налицо явная перекличка между максимой юного Померанца и моей «метафизикой целого и части», суть которой также можно собрать в короткий афоризм: когда есть части – нет целого, когда есть целое – нет частей.
Как видим, столь радикальная формулировка вообще не оставляет места диалектике целого и части, предполагающей одновременное существование целого и частей. Нельзя не заметить, что это предположение или допущение открывает дверь для целого ряда популярных, расхожих философских дискурсов. Я эти дискурсы не приветствую, поскольку полагаю, что они «размывают» философское мышление, лишая его строгости.
Смысл метафизики целого и части прост до неприличия. Я исхожу из того, что части заметны тогда, когда между ними есть разрывы, зияния. Ну а наличие разрывов – явный признак расщепленности бытия, его фрагментарности. Его не-цельности и не-целости. Не зря существительное «целое» очень часто сопровождается прилагательным «единое». «Единое целое», – говорим мы, рискуя быть уличенными в тавтологии, зато лишний раз подчеркивая, что быть целым – значит быть сплошным, внутренне неделимым.
Нечто раскладывается на составные элементы постольку, поскольку эти элементы выделимы. А выделимы они постольку, поскольку отделены друг от друга, поскольку между ними можно провести границу. Когда мы вычленяем что-то из чего-то большего, что позволяет нам сделать это? Спрошу по-другому: смогли бы мы вычленить это что-то, если бы оно было органичным продолжением всего остального, то есть фактически не отличалось бы от того, что его окружает? Кстати сказать, может, и смогли бы, только это уже называется «резать по живому».



