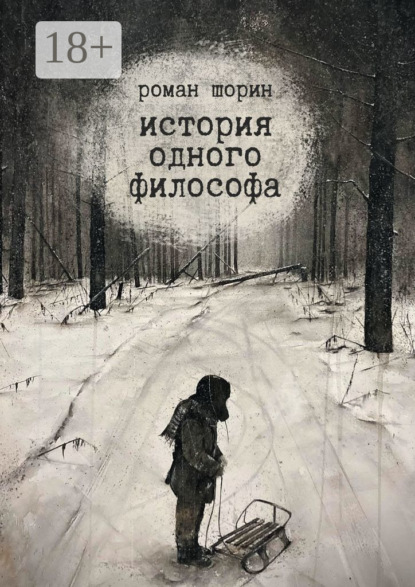
Полная версия:
История одного философа
Наблюдение означает отстраненность, дистанцированность, что явно роднит его с неприятием. Соответственно, его познавательный потенциал весьма убог. Мы размежевываемся с тем, что нас от себя отпугивает. Когда я что-то не принимаю, я, другими словами, от него закрываюсь или отчуждаюсь. Я воспринимаю его как нечто чужое, чуждое, а с таковым не очень-то хочется иметь дело. В общем, отчуждение и неприятие – не самые лучшие условия для исследовательской активности. Принятие гораздо эффективнее с точки зрения возможности видеть и подмечать нюансы, нежели отстраненное, дистанцированное наблюдение. Чем ближе и тесней контакт – тем больше возможностей для познания. Правда, это так лишь с очень серьезной оговоркой. К ней и перехожу.
С другой стороны, толерантность к тревоге уже сама по себе приводит к ее уменьшению. Не пытаясь избежать ощущения тревоги, мы его выдерживаем или выносим, мы согласны его претерпевать, а это не может не уменьшать его интенсивности. И даже сводить его на нет. А раз так, то познание тревоги, ставшее возможным благодаря не-противостоянию ей, оказывается познанием чего-то исчезающего, и все нюансы, которые могут быть подмечены благодаря нашей открытости, оказываются нюансами того, что тает на глазах. То, чему мы по-настоящему открыты, перестает быть нашим объектом. Мы с ним совпадаем. Правда, в случае с тревогой или страхом имеется одна тонкость: открываясь им, мы и их провоцируем на открытость. А оказавшись чем-то открытым, делящимся собой, тревога трансформируется в нечто иное. Как тревога она прекращается. Страх, которому не оставили других возможностей, кроме как открыться в ответ на открытость, проявленную по отношению к нему, живет секунды. Да, он входит в нас, но его напор моментально иссякает. Две-три пульсации чего-то… скорее уже комического, нежели пугающего. Если не сказать иллюзорного. Итак, проявляя открытость, мы не застаем перед собой объектов. Что-то оказывается нашим продолжением, что-то обнаруживает свою призрачность. В любом случае и то и то покидает сферу наблюдаемого и познаваемого.
Продемонстрировать открытость по отношению к тревоге, не-дистанцированность от нее – значит пригласить ее в нас как в то, что открыто, распахнуто, незамкнуто, не ведает сегментации на свое и чужое. Таким образом, тревоге, вместо того чтобы давить на нас извне, пугать (тревожить) нас собой, будет предложено, причем без вариантов, распахнуться тоже, то есть вместо своего грозного вида явить свою внутреннюю суть. И окажется, что никакой такой сути у нее нет, что она исчерпывалась исключительно своим грозным видом.
Можно описать это немного иначе: тревога как нечто разомкнутое будет уже не совсем тревогой или совсем не тревогой, ведь разомкнутость – это, скажем так, приязнь, готовность к единению. Однако готовое к единению с нами олицетворяет собой скорее любовь, нежели агрессию, причиняет радость, а не боль, способствует расслаблению, а не напряжению. Разомкнутость может быть свойством исключительно нестрашного, невредного, неопасного.
У кого-то страх вызвал неприятие, и он отшатнулся от страха, а кто-то не стал отшатываться, не стал противопоставляться, сохранил свою доступность даже тому, что вроде как является чем-то неприятным, разрушительным. И эта доступность трансформировала устрашающий страх и тревожащую тревогу. От них не отстранились, им, напротив, разрешили проникнуть в нас, но поскольку проникнуть в нас может лишь нечто тоже в свою очередь незамкнутое-в-себе, то страх и тревога с этой задачей не справились и уступили место тому, что действительно способно быть в качестве незамкнутого и потому не-иного (то есть способно принять наше приглашение побыть в нас и нами) – спокойствию, гармонии, любви.
Повторюсь, открытость – это всегда открытость тому, что также открыто. Соответственно, открытость, то есть готовность впустить внутрь, уж простите за простоту, всегда есть открытость чему-то хорошему; и если даже я открываюсь чему-то плохому, оно входит в меня – если входит – уже как что-то хорошее. Или так: оно испаряется, замещаясь чем-то хорошим. Таким, что не знает границ. Границы есть у «плохого», оно плохо, собственно, именно своей ограниченностью; и лишить его границ своей от него незакрытостью – значит преобразить его до неузнаваемости. Открытость не знает (не встречает) закрытости, другими словами, делает ее несуществующей.
В качестве примера (правда, примеры «из жизни» для философских размышлений всегда плохи, потому что уводят в сторону) можно рассмотреть случай, когда один человек пытается устрашить другого своим, например, свирепым видом, однако в ответ встречает добродушие. И весь его агрессивный напор мгновенно иссякает. Почему? Потому что ответное добродушие проявлено по отношению к тому, что скрывалось за внешней агрессивностью и грозностью – по отношению к ранимому, уязвимому существу, из-за этой своей уязвимости и принявшему облик страшилища. Добродушие к злодею есть добродушие к нему как к доброму человеку, который, возможно, всего лишь теплится где-то глубоко внутри, но до конца никогда не умирает (возможно, проявляю излишний оптимизм, однако, возможно, что и философскую последовательность).
Итак, есть нечто гораздо более трансформирующее по сравнению с наблюдением, и это открытость, принятие, толерантность. Достоинства, которые приписывают наблюдению, присущи не столько ему, сколько открытости. Открытость позволяет быть по ту сторону созависимости, не выводиться через иное, в частности, не быть субъектом, связанным своим объектом.
Выше я несколько раз сказал, что в открытое вхоже лишь то, что открыто тоже. Это не совсем верно. В открытое нечему входить, поскольку иного себе он попросту не имеет. Если в открытое не входит инородное, то не входит в него и свое, родственное: невозможны две открытости, открытость возможна как одна и та же. Если же вернуться к наблюдению, то наблюдать за страхом с дистанции – это явная полумера; идти же до конца – значит осмелиться открыться страху. Только это покажет, что мы от него действительно свободны, что он над нами не довлеет. Страх над нами не властен, когда мы не страшимся его настолько, что не прочерчиваем между ним и собой никакой разделяющей линии. Страх над нами не властен, когда нам не страшно оказаться в его власти. Звучит странно и парадоксально, однако вспомним, что страх – это не просто страх, а страх перед страхом, как и тревога – тревога по поводу тревоги. Если нет страха перед страхом, то нет и страха. Страх потому и довлеет над нами, что, испытывая его, мы его вовсе не испытываем, не подвергаем испытанию. Мы бежим от него, в чем и проявляется власть страха над нами. А если бы испытали, то долго бы удивлялись потом тому, почему так его боялись.
Казалось бы, открываясь страху, мы рискуем, что он в нас поселится. Однако он селится в нас по-другому: внушая нам страх перед страхом, вызывая нас на конфронтацию с ним. И ему будет нечем поживиться там, где его не боятся; у него не получится паразитическим манером прижиться в том, кто перед ним не трепещет и не мечтает от него избавиться. К тому же страх, который не страшит, есть страх отсутствующий, страх, которого нет (который проявился как нечто мимолетное). Как то, чего нет, может в нас поселиться? Нестрашный страх, как и не вызывающая тревоги тревога, – это квазисущности. Хорошая компания для такой квазидеятельности как познание-через-наблюдение. Ведь познанию, как уже было сказано, куда более способствует открытость. Впрочем, она же – открытость – делает познание лишним, не требующимся, устраняя саму основу для субъект-объектного размежевания. Открывшаяся возможность познавать сразу же закрывается, правда, познание не столько запрещается, сколько теряет свою актуальность.
Чтобы высказанные соображения носили в большей степени философский, а не психологический характер, завершим их указанием на то, что человека (личность, «я») все-таки уместнее рассматривать как пример или образчик закрытости, а не открытости. Как правило, мы являем собой закрытость. Открытость воплощает собой нечто иное. И именно благодаря его «воздействию» на нас мы подчас размыкаемся. Я взял слово «воздействие» в кавычки, потому что оно обозначает внешнее влияние одной закрытости на другую. Здесь же имеет место наша встреча с не-иным нам, и это лишь в очень условном смысле может быть подогнано под формат встречи.
Итак, мы проявляем открытость в той мере, в какой в нас проникает и начинает присутствовать то, что, в отличие от нас, действительно открыто. Я сейчас веду, во-первых, к тому, что наше собственное решение проявить толерантность или быть открытым – не более чем благое, читай пустое намерение, а во-вторых, что к человеку, который в данный конкретный момент оказался вовлеченным в ту или иную разновидность открытости, вряд ли нагрянут страх или тревога. (Что за разновидности открытости? О чем речь? Вопросы выглядят справедливыми, и все же я ограничусь своей туманной формулировкой, поскольку применительно к тому, о чем зашла речь, чем туманнее, тем лучше. Речь здесь ведется скорее не о чем-то, нежели о чем-то, и ведется, стало быть, не вполне легально или оправданно, ведь нельзя говорить, если говорить не о чем, даже если разговор затеян не про ничто, а про «не что-то». )
И последнее: проявив известную прозорливость в отношении открытости (терпимости, принятия), я, казалось бы, выказал свою близость к ним. Примерно так, как, скажем, геолог близок к геологии. Вот парикмахер далек от геологии, а геолог близок. Парикмахер не имеет отношения к геологии, а геолог имеет. Однако в случае с открытостью все иначе: к ней ближе не тот, кто ее отмысливает (осмысляет), но тот, кто меньше всего склонен видеть ее как объект – для мышления, наблюдения ли, неважно. Подлинная, а не умозрительная открытость делает человека открытым по отношению к ней со всеми вытекающими последствиями, и я, кажется, повторяюсь, но в данном случае это уже не только констатация, но и предупреждение: если вы отреагируете на эти записки в духе «какие верные мысли и наблюдения здесь изложены!», мои усилия, похоже, привели к обратному результату. Да и могло ли быть иначе?
Возможно ли философское мировосприятие?
Философ – это, разумеется, не профессия. В том смысле, в каком профессией, например, является машинист поезда, медсестра или нотариус. Философ – это куда ближе к специфическому мировосприятию.
Возьмем, например, автолюбителей или автомобилистов. Наиболее отстоящим от философии или от философского мировосприятия будет тот из их числа, для кого разница между самым дешевым автомобилем, который при этом на ходу, то есть оснащен всем необходимым, чтобы им пользоваться, и самым дорогим, люксовым авто, будет колоссальной. Для кого самый дешевый автомобиль и автомобиль премиум-класса – это как небо и земля, тот ни разу не философ.
В свою очередь, автолюбителя можно смело считать философом, если его позиция состоит в следующем: между самым дешевым и самым дорогим автомобилем гораздо больше сходства, нежели различий. И на том и на другом можно добраться из точки А в точку В значительно быстрее, чем на лошади или пешком. И тем и другим нужно управлять с помощью рулевого колеса, педалей газа и тормоза. И тот и другой защитит вас от дождя, снега, холода, а также от жары, если открыть окна или включить кондиционер, которым сегодня оборудованы даже самые посредственные модели. И там и там можно слушать радио, подпевая любимым песням. И т. д. и т. п.
Причем то, что объединяет самый дешевый и старый автомобиль (который, напомню, все еще на ходу) с самой дорогой и новой машиной, будет касаться главного, определяющего в них. Все же различия между ними будут связаны с деталями, частностями. С отделкой салона, с секундами в разнице ускорений, с комфортностью сидений, в которых равным образом будет тяжело находиться много часов кряду – захочется пройтись, размяться. В самом деле, если вам в какую-то критическую минуту понадобится просто проехать с десяток километров до соседнего населенного пункта, а не покрасоваться перед соседями, не произвести впечатление на спутницу и т. д., вы, имея ключи от двух разительно отличающихся по цене автомобилей, выберете, скорее всего, тот, какой окажется ближе, то есть, что называется, первый попавшийся.
Итак, более соответствовать понятию философа будет не столько обладатель соответствующего диплома, а тот из нас, кто, во-первых, видит в разных явлениях одного и того же класса прежде всего то, что их сближает, а во-вторых, видит в них главное, первостепенное, базовое. Базовое и сближающее, кстати, совпадают далеко не случайно. Разнят и разнятся прежде всего детали, мелочи. Точнее, только они. Если бы разделяющим фактором выступало базовое, тогда явления не смогли составить класс, разряд, отряд или какую-то иную группу. Скажем, то, что объединяет все автомобили в одно большое семейство, представляет собой главное в каждом из них, то есть такое, без чего он был бы уже не автомобилем, а чем-то другим.
До этого места мое повествование протекало более или менее плавно. Увы, но дальнейшие мои размышления в рамках этого наброска будут сбивчивыми. Например, последующее начнет опровергать предыдущее. Ах, если бы дело ограничивалось только автомобилями и им подобным!
Философ не будет философом, если не пойдет дальше. Для него окажутся примерно одним и тем же не только явления, относящиеся к одному классу или семейству, – для него примерно одним и тем же будут и классы явлений. И он, надо заметить, будет прав. К примеру, представим два класса явлений, и уже из самих только что прозвучавших слов – «два класса явлений» – следует, что и там и там – явления, то есть нечто более или менее одного порядка.
Философ начнет объединять классы в более крупные классы и не остановится, пока не подведет под общий знаменатель все. Замечу, что я не сказал «подведет под общий знаменатель все вокруг себя». Однако об этом чуть ниже. Сейчас же напомню, что общий знаменатель, под который можно подвести одно, другое, третье, будет связан с главным или глубинным в них. Указывая сугубо на внешние и поверхностные аспекты, выявить общее не получится. Так или иначе, подвести разное под общий знаменатель – значит констатировать, что в главном это разное – одно и то же. А если первое, второе, третье – одно и то же (ведь все, что не главное, можно смело отсечь), то, выходит, границы между первым, вторым и третьим весьма условны. Первое может найти себя во втором, второе – в третьем, а третье не найдет оснований не совпасть с первым и вторым сразу.
Вот мы и перешли к разговору про живое. И именно здесь нас подстерегают неожиданности и сюрпризы. Я же говорил, что автомобилями и прочей механикой дело не ограничивается. Представим, что человек, близкий к тому, чтобы называться философом, наблюдает флору, фауну, других людей. И его мировосприятие таково, что разница между маленькой, едва проросшей травинкой и большим старым деревом будет минимальна. В его восприятии маленькая травинка может найти себя в огромном дереве, а огромное дерево – в крохотной травинке. Я сейчас имею в виду такой смысл выражения «найти себя в чем-то», которым подразумевается, что между тобой и тем, в чем ты себя находишь, нет непреодолимого барьера, что вы не просто схожи, но вполне накладываетесь друг на друга, совпадая. Если и там и там одно и то же, то эти два бытия могут перетекать друг в друга как в нечто единое. Между А и Б нет сущностного различия, а значит, А – это и Б тоже, а Б, в свою очередь, – это не только Б, но и еще и А. Понимаете, к чему я клоню?
Итак, живое. Это вам не автомобиль. В случае с живым важно правильно поставить вопрос. Я сформулирую его так: возможно ли мировосприятие, подразумевающее собой взгляд на все виды жизни как на нечто единое-в-себе? Призываю не отвечать на него сразу же, тем более давать положительный ответ, ведь, как известно, трудно отказаться от уже выбранной точки зрения.
Допустим, некто наблюдает за живыми существами. Допустим, перед ним – кошки разных пород. Соответственно, близким к тому, чтобы называться философом, он будет в том случае, если для него эти разнопородистые животные – всё одно кошки. Предположим, далее, что неподалеку от кошек находится группа людей, представленная человеком с востока, человеком с запада, человеком с юга и человеком с севера. С точки зрения того, кто действительно не чужд философии, эти четверо – всё одно люди. Вообразим, наконец, что вы наблюдаете и группу кошек, и группу людей одновременно. Если и вы не совсем чужды философии, для вас и те и другие будут всё одно живыми существами. Все они – живые существа, через всех них происходит жизнь. Это обстоятельство будет заодно и тем, что их объединяет, и тем, что составляет их суть.
Напомню также, что в каждом из живых существ основу или суть составляет настолько схожее, что один из них запросто может признать другого как себя. Ведь благодаря тому, что их общность – это общность в главном, они не изолированы друг от друга – они друг для друга открыты. Изоляция на базовом уровне попросту невозможна.
Так вот, ладно, если бы философ смотрел на окружающую жизнь и видел примерно одно и то же. Или даже не примерно, а вообще одно и то же. Все обстоит куда хуже. В самом начале я отметил, что философия – это ближе к мировосприятию, нежели к профессии или работе. Однако «ближе к мировосприятию» не означает равно́ ему. Специфическое мировосприятие присуще скорее философу зачаточному, начинающему. А вот у философа, который философ по максимуму, нет и не может быть никакого мировосприятия.
Чтобы обосновать столь странный тезис, вернусь к предыдущим примерам, в одном из которых фигурировали люди и кошки. Начинающий философ смотрит сквозь внешнюю разность людей, видя в них нечто, равное себе. Также он смотрит сквозь внешнюю разность кошек, видя их как плюс-минус одно и то же. Наконец, он смотрит на людей и кошек, видя уже не их, а их общий знаменатель – жизнь, одну и ту же жизнь в разных своих преломлениях, которые, впрочем, носят поверхностный, незначимый характер. Сразу вслед за этим происходит нечто неожиданное, вследствие чего начинающий философ превращается в философа полноценного, так сказать, зрелого. А именно: начинающий философ обнаруживает и самого себя как всё ту же, равную себе жизнь. Собственно, потому он и становится философом зрелым, полновесным.
Разумеется, при этом никто ничего не обнаруживает. Если я, наблюдая других людей, начинаю воспринимать их в качестве преломлений одного и того же, а именно жизни как таковой, у меня, коль скоро я тоже – живой, нет ни прав, ни возможностей оставаться от этой жизни в стороне. Ведь это уже не чья-то отдельная жизнь, а жизнь как таковая. Я вовлекаюсь в нее, чем и подтверждаю, что всё, в сущности, есть одно. А если бы продолжил ее наблюдать, то подтвердил бы, что всё не есть одно, поскольку есть наблюдаемое и есть наблюдатель, и они не равны друг другу. Кстати, именно их неравенство делает возможной саму эту процедуру – наблюдение.
Если я вдруг – как правило, неожиданно для самого себя – меняю глубину резкости и смотрю на группу разных людей как на нечто такое, что, игнорируя их внешнюю разность и их отграниченность друг от друга, находит себя совершенно равным образом в каждом из них, то буквально через мгновение оно – то, что игнорирует различия между наблюдаемыми мною людьми, – начинает игнорировать и мою с ними разность. И я не смогу с этим ничего поделать. Граница между наблюдающим и наблюдаемым размывается, исчезает. А значит, исчезает, прекращается и процесс наблюдения. Впрочем, не жалко. Ведь больше нет того, за чем можно было бы наблюдать, как и нет того, кто мог бы вести наблюдение. Совпав друг с другом, эти две стороны исчезли. Исчезли именно как стороны. Стало быть, в наблюдении больше нет никакой надобности.
Когда мой взгляд проходит как бы сквозь те или иные преломления жизни и как будто упирается в жизнь как таковую, она – жизнь как таковая – тотчас напоминает мне, что я есть не что иное, как живое существо, и принадлежу этой жизни, вхожу в нее, причем эта жизнь не знает разрывов и в каждой своей точке полностью равна самой себе (вообще-то, это означает отсутствие каких бы то ни было точек). Жизнь напоминает мне, что я – не более чем тоже ее частный случай, причем вся моя отдельность зиждется на сугубо третьестепенных моментах, на глубинном же уровне ее нет вовсе. Жизнь напоминает мне, что противопоставиться ей сущностно – значит попросту умереть, перестать дышать. Поэтому я прекращаю что-либо видеть или воспринимать. Еще бы, ведь начатое было мной восприниматься оказалось тем, что имеет в меня прямой доступ. Я тоже вовлекаюсь в общность разных людей, разных кошек и всего остального. Я не могу продолжать на нее смотреть, потому что это общность всего живого. Смотреть на нее некому, ведь неживые – это те, кого нет. К тому же общность всего живого не может быть объектом наблюдения в силу своей безграничности. Ведь ограниченное лишь тем, чего нет, границ не имеет.
Итак, философ лишь тогда последователен и идет до конца, когда, обнаружив, что всё вокруг него есть одно, далее ничего больше не обнаруживает, поскольку тоже оказывается не в состоянии отделить себя от этого одного. Не может же быть такого, что всё, в сущности, есть одно, что всё в своей основе едино и лишь для философа сделано исключение. Нет уж, если всё есть одно, то и ты есть это самое «одно» тоже.
Однако чем тогда будут философ и философия? Не только не профессией, но даже и не мировосприятием. Но чем же? Дорогой к обрыву. Дорогой в бездорожье. Дорогой туда, где не будет уже ни дорог, ни идущих по ним. Философия – это когда ступаешь на неизвестную землю, а на втором шаге земли под ногами уже не оказывается. Философ – это тот, кто вдруг начал было понимать нечто невообразимо важное, но буквально в ту же самую секунду понимать вдруг стало некому, нечего и не про что. В случае же если он продолжил свои попытки понимать и разбираться – он как философ прекратился, поскольку неадекватный человек философом явно быть не может. Расположиться напротив единой-в-себе жизни (в качестве ее «понимателя») – явная неадекватность, простительная лишь в том случае, если она длится считанные мгновения. А долгие годы, проведенные в исчисляемых томами сочинениях, эту неадекватность только усугубят. Философскому писательству следует обрываться многоточием за шаг до, казалось бы, финальных прозрений. Кстати, это мое прозрение тоже предфинальное, поэтому я настаиваю на нем исключительно в порядке развлечения.
P. S. Социум – любой, то есть социум в принципе – нацеливает своих членов на выделение различий – нюансов, оттенков, деталей. Подавляющее большинство работ, за которые люди получают деньги, заключается именно в различении. И у кого оно отточенней, тот получает больше. Охранник в магазине пытается выделить потенциального вора среди массы покупателей. Акустик в подводной лодке вычленяет из массы обычных шумов такие, какие могут означать опасность. Доктор просто обязан не перепутать одно заболевание с другим. Если вы собрались водить машину, вы должны различать цвета светофора, в противном случае вам не выдадут права. Тонкий слух, чуткое обоняние и острое зрение, включая сюда в первую очередь умозрение (различающий интеллект), – вот что востребовано в человеческом муравейнике. Внимание к разнице, к отличиям, к особенностям.
В этой связи меня всегда изумляли жалобы так называемых профессиональных философов. Дескать, им мало платят. Радовались бы, что у них вообще есть кров и пища. С другой стороны, большинство таких философов занимаются все тем же различением, отделяя одни направления философской мысли от других, разбивая историю философии на отдельные периоды и т. д.
Обществу как институции нужны исключительно различители или различатели. Те, кто способен расщеплять, дифференцировать и раскладывать по полочкам. Аналитики, одним словом. Философы же занимаются общественно бесполезным делом, поэтому с какой стати им претендовать на вознаграждение? Если для вас все едино и вас самих затягивает туда, где пропадают всяческие различия или как минимум сходит на нет их существенность… А не формирую ли я сейчас вокруг философа по-своему притягательный ореол? Вроде того, что «пусть не зарабатывает, зато…» Нет никаких «зато».
Повторюсь, что для социальной жизни акцентировать внимание на различиях – норма. Поэтому ломать или перестраивать сложившуюся культуру в соответствии с подходами, близкими к философским, не нужно. Попытка создать культурную среду, благоприятную для философов, приведет к тому, что первым делом будет задушена именно философия. Ей оптимальней быть несанкционированной и беспредпосылочной.
Однако вернемся к социуму. Неслучайно слова «мне все равно» или «мне все едино» расцениваются в общественном сознании как проявление равнодушия. Отзывчивость, чуткость связывается с чуткостью к различиям. Без такой связки общество окажется несостоятельным. И все же различия, напомню, расположены на самом поверхностном, онтологически незначимом слое. Если мое неравнодушие состоит в том, что я зациклен на поверхностном, то, выходит, я равнодушен к тому, что лежит в основе.

