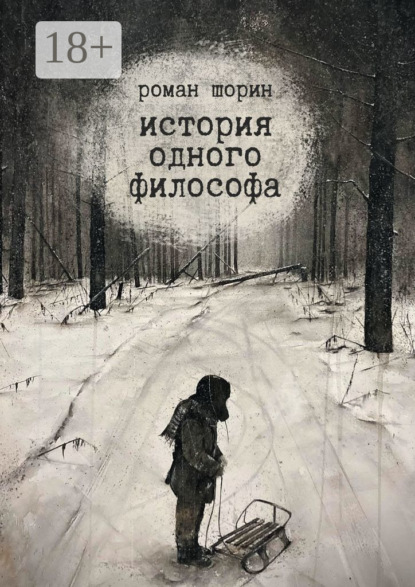
Полная версия:
История одного философа
Если кто-то рискнул, то он готов и к тому, чтобы спокойно выслушать заявление, которое возмутит любого человека в так называемом здравом уме. А именно: чем сильнее стимул, тем важнее не реагировать на него. Чем проблематичнее ситуация, тем уместнее отзываться на нее внутренней тишиной. Полагаете, так не выживешь? Однако есть примеры, когда выживали. И дело даже не в примерах, а в том, что если выживание требует от вас изменить самому себе, тогда ваше ли это выживание? И это мы сейчас забыли про то, что, коль скоро проблема провоцирует нас именно на интенсивные и почти лихорадочные раздумья, то – десять из десяти – ее нам подсунул наш же ум.
От беспокойства, кстати сказать, загнуться куда вернее. Множащее себя думание убивает, а еще имеет все шансы превратиться однажды в болезнь номер один. К тому же действительность такова, что поводы для дум становятся все более серьезными, глобальными. Как говорится, не отвертишься. С другой стороны, эти поводы на поверку оказываются яркими образчиками опосредованного восприятия или концептуализации, то есть производными вырвавшегося из своей подчиненной роли интеллекта. Между глобальностью и надуманностью проблем, возможно, имеется прямая корреляция. Однако спору нет, глобальность добавляет проблеме весомости. Между тем, как уже сказано, чем весомей повод задуматься, тем адекватнее не идти у этого повода на поводу. Чем весомей повод задуматься, тем актуальней вопрос, а надо ли вообще думать на заказ?
Итак, не думать – в сто крат труднее, чем думать. И одновременно не думать нам сподручнее, удобнее, лучше с точки зрения сохранности нашего внутреннего баланса. Не реагировать думанием – значит оставаться в сознании, оставаться живым, чутким, только чутким как открытым, а не как рефлекторно реагирующим. Очередной парадокс. Хотя… Это нормально, что трудно быть самим собой, быть тем, кем тебе подобает быть, поскольку мы разлучены со своими органичными состояниями. Впрочем, эта проблема тоже существенна лишь постольку, поскольку над ней задумываешься. Быть собой, может, и трудно, но лишь вначале.
Говорите, нет выбора, надо реагировать? А кто-то скажет: держись тех состояний, которые для тебя органичны и в которых ты органичен. Говорите, вопрос настолько серьезный, что надо гонять его в голове, не переставая? А чьим-то решением будет длить спокойствие, хранить внутреннюю невозмутимость, не суетиться, тем более когда этого требует нечто, явившееся извне. Не думать вынужденно, то есть не по своей воле. Действует под давлением не что иное, как автомат. Не поддаваться давлению – проявлять себя зрячим, бытийствующим. Именно бытие вопреки или без причины и будет, собственно, бытием. Есть причины думать, и нет причин не думать. Значит, не-думание вопреки наличию стимула думать и будет подлинным бытием как тем, что ничем не порождено, не вызвано и тем не менее есть, наличествует.
Если реакция запрограммирована, а реакция на проблему в виде думания над ней именно такова, тогда быть – значит воздерживаться от этой реакции, от ее автоматизма. В конце концов, если вернуться к началу нашей заметки, это манифестация, утверждение свободы. Если велят думать, не думай. Думай, когда не велят. И вот тут явно напрашивается вопрос: а будет ли думать тот, кто свободен? Не схожа ли свобода с покоем, который придется нарушить, если начать думать? Если вспомнить, что ближе к началу я разделил думание и мышление, то появится желание масштабировать вопрошание. Будет ли тот, кто свободен, мыслить? Однако это уже вопрос о возможности философии, о возможности мышления как философствования.
Сдается, мне лучше воздержаться от развития этой темы. Отмечу лишь, что, по-видимому, человека делают философом не специфические умозаключения, а корневые, целиком его захватывающие трансформации (что-то вроде смещений «точки сборки»), умозаключениями не запускающиеся и практически не оставляющие пищи для ума или мышления, потому что прежнее исчезает, словно его и не было, а новое входит в плоть и кровь до такой степени, что его не объективировать (а новое оказывается настолько инвариантным, что от него не отмыслиться).
Возвращаясь к основной линии, подкреплю свои тезисы поэтическими строками. Наверное, примерно об этом – о бытии наперекор, вразрез – писал поэт Есенин, только, конечно, более интуитивно, а потому не вполне философски четко (чего стоит только слово «казаться»):
В грозы, в бури, в житейскую стынь,При тяжелых утратах и когда тебе грустно,Казаться улыбчивым и простым —Самое высшее в мире искусство.Точно таким же «высшим искусством» будет не думать в ответ на стимул в виде проблемы, требующей, чтобы ей уделили внимание, и подпитывающейся им. Ведь не потому ли проблема требует от нас внимания, что через него заодно подпитывается и то, что проблему породило, – наш ум? Скорей всего, как уже отмечалось выше, дело вообще не в проблемах, а в самом думании, в самом зудящем беспокойстве. Когда человек выходит из состояния равновесия, его беспокойство начинает видеть проблемы буквально во всем, то есть, собственно, порождает их и таким образом усиливает, длит себя. Только не надо это как будто бы само себя усиливающее беспокойство уподоблять самопорождающемуся бытию. Бытие, которому не нужны сторонние источники, чтобы быть, ни на ком не паразитирует, в то время как беспокойство – это именно маскирующийся под нечто полезное паразит, питающийся чужой энергией, чужими жизненными соками, ворующий их.
Почему бы в рамках выбранной темы не зайти с еще одной стороны и хотя бы общими мазками обрисовать следующий сюжет? Представьте, что вы идете по улице. Поле вашего восприятия, сменяя друг друга, занимают дома, деревья, люди, припаркованные машины и т. д. По поводу очередного здания вы, до этого некоторое время ни о чем не думавший, делаете умозаключение: «Как же он обветшал за последние годы. Явно нуждается в ремонте, если вообще не в сносе и замене на новое, современное сооружение». Не похоже ли это на то, как рыба, прежде свободно плавающая в своей стихии, клюет на наживку и попадает на крючок?
В самом деле, то, что подтолкнуло к умозаключению, одновременно вытолкнуло вас из бытия здесь и сейчас, создало прошлое и будущее, куда вы и отправились вместе со своей думой. Казалось бы, вы уделили этому дому внимание, то есть восприняли его. И все же имеются все основания поставить вопрос: в каком восприятии больше этого самого восприятия – в оценочном или безоценочном? Пока вы не оценивали сменяющие по ходу вашего движения друг друга здания, они оборачивались бытием-как-данностью, в которое можно было погружаться, которым можно было пропитываться. Теперь же вы стали всего лишь субъектом объекта. Смею утверждать, что, делая вывод о ветхости, обветшалости дома, вы, скорее, перестаете его воспринимать. Из свободного зрителя вы превращаетесь то ли в гражданского активиста, то ли в чиновника или другое должностное лицо. И, кстати, что значит быть свободным зрителем? На мой взгляд, это значит предоставлять свободу и тому, на что смотришь. А то, что позволяет нам быть свободным и чему мы позволяем быть свободным, не противостоит нам. Мы свободны именно тогда, когда внешний мир лишь формально является внешним миром, на деле же выступает той самой естественной для рыбы средой, которая не вынуждает рыбу выделять себя из этой среды, как заставляет ее выделять себя окружающий мир, в котором она оказывается после того, как с помощью удочки ее вытащили из водоема. Ровно в таком же положении обнаруживает себя тот, кто, начав думать, переместился из реального мира в виртуальный – мир сравнений, вычислений и прочего контроля/учета.
В качестве финального аккорда замечу, что будет глубоко ошибочно полагать, будто это вопрос нашего волевого решения – не реагировать на проблемы, вызовы, напасти, неожиданные новости и прочие коллизии. Или, поправлюсь, не создавать их, не впадать в беспокойство. Одних наших сил для этого недостаточно. Наше спокойствие возможно в той мере, в какой мы приобщены к чему-то большему, а точнее, к тому самому бытию, которому не требуется никаких условий для того, чтобы оно было.
* * *
Так бывает, что финальным аккордом дело не ограничивается. Оратор закончил, но к нему возникли вопросы, по поводу его заявлений родились возражения. «Вы сами себе противоречите. Ведь если бы вы не думали, вы не открыли бы всего этого». Верно. Если бы я не думал, этого текста не было бы. Тексты вообще создаются лишь теми, кто беспокоится (за вычетом, пожалуй, подлинных произведений искусства). Что касается моих открытий, то они наглядно демонстрируют собой специфику думания, состоящую в том, что материал для думания возникает вместе с самим думанием. В самом деле, вот я благодаря стараниям своего ума кое-что открыл, однако разве в данном случае было что открывать? К примеру, то, что не-думание – более адекватная реакция на стимул-проблему, не может быть открыто по-настоящему вследствие умственных вычислений, поскольку изнутри ума адекватным может представляться исключительно умствование.
Вернее, это вообще не открывается как некий факт, как некая информация, как понимание «об этом лучше не думать, чем думать». Во всяком случае тот, кто не умозрительно, а реально предпочел не думать по внешнему требованию, не имеет самого материала, чтобы путем его осмысления что-то открыть и понять. Судите сами. Того, о чем он не думает, для него нет. В отсутствие стимула думать думание как возможность лишено смысла, а потому тоже отсутствует (так, если у вас нет представления о воде или любой другой жидкости, у вас не может быть представления и о плавании). Да и сам не-думающий – это тот, кто не вполне есть; кто, скажем так, вместе со своим не-думанием феноменально не обнаруживается. Не обнаруживается в том числе для самого себя. К тому же он не делал никакого выбора или предпочтения одного другому. Не думать под давлением, не прерывать спокойствия было инвариантом, чья ни с чем несопоставимость так же изымает его из сферы феноменов, то есть из разряда дров для костра ума. Итак, положение дел таково, что здесь буквально нечему быть лучше чего-то, как нечему быть и тем, в связи с чем один вариант лучше другого. Положение дел таково, что нет никакого положения дел.
Когда вы не реагируете на стимул предаться раздумьям, вы не будете реагировать и на свое не-реагирование как на стимул с ним разобраться, постичь его, определиться с ним, закрыть его как вопрос. Не-реагирование не есть что-то. Что-то выводится из чего-то еще, как, например, реагирование, реакция выводится из стимула, обуславливается им. Не-реагирование равняется свободе, которая может быть проблемой лишь в виде умственного концепта. Реальная свобода не может быть проблемой уже в силу того, что она свободна даже от самой себя, что вычеркивает ее из списка каких бы то ни было объектов, в том числе как сулящих, так и не сулящих проблемы. Кстати, объект – это не что иное, как объект проблемный. Объект, не являющийся проблемой, – это уже не объект, и с тем, что не является проблемой/объектом, мы не просто не разбираемся с помощью умственных вычислений, мы вообще не противополагаем себя и его. Вместо констатации «этот объект беспроблемен» происходит другое – совпадение субъекта с объектом, их наложение друг на друга.
Вспомним про бытие, не имеющее внешнего источника и все-таки бытийствующее. Оно как раз и выступает полнейшей беспроблемностью, поскольку про него не надо ничего выяснять (как правило, выяснение начинается с выяснения происхождения). И мы этого бытия не фиксируем, что не тождественно «проходим мимо». Мы в такое бытие вовлекаемся, поскольку беспроблемно оно в силу своей полноты, безущербности (в отличие, скажем, от электрического прибора, ущербного без источника питания), а быть в стороне от исполненного полноты бытия невозможно. Если все – здесь, то быть больше негде.
Конечно, все эти выводы сделаны исключительно в силу проблематизации и объективации беспроблемного бытия, в силу объективизации свободы. Мы потому и определяемся со свободой, что чувствуем в ней проблему. А чувствуем в ней проблему, поскольку ее объективировали, после чего она предстала перед нами как нечто локальное, что сразу же проблематизирует свободу этой локального кусочка чего-то большего, явно зависимого от своего контекста. Неслучайно вместе с появлением в нашем уме понятия беспричинного появляется стремление обосновать его беспричинность, то есть отыскать и предъявить причину, в силу которой оно может обходиться без причины. Это говорит лишь о том, что реальное беспричинное в нашу голову не поместить. Беспричинность выглядит для нас как для тех, кто думает, проблемой, но почему? Потому что, опять же, мы не можем не смотреть на беспричинное как на объект, а всякий объект обязан своим происхождением той среде, из которой он вычленен, и среда у объекта должна быть по определению.
Засим, уважаемый читатель, позвольте откланяться. Увы, но внутренняя возможность привести эти пассажи к завершению отсутствует в принципе. Остановить разрастание этого текста можно только извне, и такого рода остановка, даже произойди она через сто страниц, будет выглядеть неожиданностью, насилием и произволом. Что поделать.
Анекдот в тему: один человек жалуется другому на свою жизнь и обилие свалившихся на него проблем. Его собеседник отвечает: «Относись к этому философски – не думай».
Доверить себя
«Доверься Богу», «доверься Вселенной», «доверься жизни». Смысл всех этих призывов состоит не столько в том, что Бог непременно спасет, Вселенная непременно поможет, а жизнь непременно сгладит неувязки и сложности, сколько в специфике того, что стоит за словом «доверие».
Доверяясь, мы доверяемся чему-то/кому-то как не-чужому, не-иному, ведь иному нельзя довериться, поскольку оно имеет свои, отдельные интересы. Всецело положиться на кого-то – значит положиться на него как на самого себя, как на свое продолжение. «Я полагаюсь на тебя», – говорим мы кому-то, и значение наших слов следует раскрывать следующим образом: «Я уверен, что ты позаботишься обо мне с не меньшим усердием, чем ты заботишься о себе». Или: «Я уверен, что в этом вопросе ты не будешь ставить свои интересы выше моих, не будешь проводить разделительную линию между своей и моей жизнью».
Да, здесь, в этих интерпретациях, делается упор на том, что не разделяет себя и нас тот, кому мы доверяемся, но откуда мы знаем, что он не разделяет себя и нас? Оттуда, что мы не чувствуем преграды между нашими жизнями, то есть и сами не разделяем их.
В общем, помогает, спасает и сглаживает острые углы уже само это доверие или доверение, ведь благодаря ему мы превозмогаем свою обособленность, а потребность в спасении или поддержке связана именно с обособленностью нашего существа. Имея того или то, чему можно довериться, и доверившись ему, препоручив ему себя, передав ему на попечение свою жизнь, мы перестали быть обособленными, и нас теперь уже если и надо спасать/поддерживать, то в самом минимальном смысле, поскольку главное «спасение» уже случилось, и я, конечно же, имею в виду наше спасение от нашей же обособленности.
Между тем неслучайно, что так называемые мудрые люди призывают довериться чему-то такому, что не выглядит как фрагмент чего-то большего и во что мы уже включены, правда, включены, как нам представляется, в качестве части, элемента или вышеупомянутого фрагмента. Бог бесконечен, Вселенная бесконечна, жизнь бесконечна. Призыв довериться в данном случае звучит как призыв обнаружить, что бесконечность, внутри которой мы есть, неделима, что ее составной характер проявляет себя лишь на поверхностном, а не на сущностном уровне. Это призыв не обособляться от того, во что мы якобы входим на правах своего рода отдельного атома, соединиться с ним как с тем, что везде равно самому себе. Правда, «везде» означает и там, и там, и там, в то время как если нечто действительно неделимо, внутри него нет разных мест.
В самом деле, то, что уже не фрагмент чего-то большего, вряд ли распадается на фрагменты чего-то большего. Не быть частью, будучи в виде частей, не быть дробью и представлять собой раздробленность, не иметь границ снаружи и иметь их внутри… В этом есть что-то противоестественное. Ведь мы употребляем слово «целое» в обоих случаях: и когда указываем на мнимость разделения на составные элементы («они являются одним целым»), и когда подчеркиваем автономность, самоценность, несводимость к служебной или подчиненной роли («этот мир – завершенное целое»). Если что-то не делит бытие с чем-то еще, то и внутри него ничего не делит бытие с чем-то еще. Внутреннее единство оборачивается внешней единственностью или обеспечивает ее, а внешняя единственность оборачивается внутренним единством.
Конечно, теологи не согласятся с тем, что Бог есть то, внутри чего мы находимся. Для теологов он есть не вокруг нас, а напротив или снаружи нас. Но давайте вспомним, что господствующее среди теологов мнение утверждалось в борьбе, по итогам которой победил не тот, кто прав, а тот, на чью сторону встали социальные институции с их инструментами насилия и подавления. Вспомним про мистиков всех религий, гонимых, но знай твердящих свое. Они бы спорить не стали. Впрочем, даже вполне ортодоксальные верующие проговариваются раз за разом. Например, когда кто-нибудь из них говорит не «моя жизнь с Христом», а «моя жизнь во Христе».
Как правило, призывы, с которых я начал, не помогают, не работают. Им не следуют, им не внемлют, что не отменяет того их философского смысла, на который я указал. А не работают они в силу того, что, в частности, всякое словесное послание есть корреспондирование между двумя обособленными существами или существованиями. Тот, кто нам что-то сообщает, подает и себя как обособленность по отношению к нам, и нас как обособленность по отношению к нему. И хотя слова призывают к единению, утверждаемое через речь отчуждение сторон общения делает свое черное дело, перевешивая сами слова. Вам порекомендовали доверить себя чему-то, а в итоге вы лишь сильнее чувствуете свою изоляцию, а также опасность, которой явно будет чревато ослабление ваших границ.
К тому же просто-напросто невозможно, чтобы кто-то своим целенаправленным, намеренным усилием доверил себя чему-то, причем всецело, безоговорочно. Во-первых, адресными усилиями, в чем бы они ни состояли, свою обособленность можно только усилить, ведь усилия требуют сосредоточиться, то есть собраться, сжаться, локализоваться. Во-вторых, нельзя довериться чему-то, то есть тому, что воспринимается нами как нечто внеположное, инородное, отличное от нас. Мы доверяемся тогда, когда то, чему мы доверяемся, перестает быть тем, что мы можем видеть, слышать, ощущать, – покидает область внешнего. И тогда нам уже не надо отдавать себе никаких команд или советов: все случится без них.
Нельзя побудить себя к тому, чтобы почувствовать Бога или жизнь как таковую в качестве не-иного нам. Нельзя превратить иное в не-иное умственным (сознательным) усилием. Поэтому я и назвал тех, кто выступает с призывами, подобными тем, что приведены в самом начале, так называемыми мудрыми людьми. По-настоящему мудрый человек – это тот, кто не видит во мне обособленность, которую надо призвать к доверию и открытости, и его не-восприятие меня в качестве обособленности делает его распахнутым по отношению ко мне, при всей двусмысленности слов «распахнутость по отношению к кому-то». Мне оказывается нечего противопоставить этой распахнутости, я в известном смысле «обречен» распахнуться в ответ, потому что нельзя быть иным по отношению к не-иному, хотя, конечно, здесь повторяется та же ошибка, поскольку не-иное не фигурирует в отношениях. По-настоящему мудр тот, кто доверяет бесконечным Вселенной, жизни и Богу настолько, что они распахиваются через него, не оставляя ближним этого мудреца другого варианта, кроме как довериться этим бесконечностям тоже. Мудрым среди нас будет человек, доверяющий бытию в том числе и в вопросе как обеспечить доверие к бытию со стороны окружающих этого человека людей.
Как тут не вспомнить, что в философии распространено близкое, и все же иное определение мудреца. Согласно философии, мудрость состоит прежде всего в том, «чтобы видеть все как одно». Однако к этому подходу имеются два серьезнейших возражения. Первое из них такое: если вы видите как одно «это, то и еще вон то», то вы, скорее всего, видите три обособленные части, а отнюдь не их единство. К слову, «их единство» – это тоже не совсем единство, потому что это единство одного, другого и третьего.
Второе возражение содержит в себе целый ряд вопросов (впрочем, все они об одном и том же). Допустим, вы взираете на мир как на единство. Но почему это единство не захватывает в себя и вас? Едино ли оно вообще, коль скоро оно не единственно? Как так получилось, что, будучи единством, оно позволяет превращать себя в часть (в объект), которую рассматривает другая часть (субъект)? Вобрав в себя столько всего разного, почему оно не вобрало в себя вас, почему оно сделало для вас послабление? Почему вы не спешите в него вовлечься, коль скоро это единство таково, что все остальное было не в силах с ним разниться, от него отличаться, коль скоро все остальное находило в нем себя? Или в нем все-таки недостаточно единящей силы? Или оно все-таки превращает в одно не все, не всему открывает в себя вход? На ваших глазах все сплавилось в одно, все оказалось не-чужим, не-иным друг другу, так почему же вы взираете на эту революционную метаморфозу, на это чудо, на эту гармонию как на нечто отдельное, инородное вам? Наконец, является ли всем то, во что вы не включены? Если ответ отрицательный, если «все» в словах «все как одно» включает в себя и вас, тогда будет ли кому смотреть на это «все как одно»?
Прошу прощения за явный излишек вопросов, да и за нападки на философию тоже. Без допущений, подобных допущению возможности смотреть на все как на одно (как на всё), без такого рода ошибок философам осталось бы помалкивать. А представить мир без философии решительно невозможно. Это как представить мир без поэзии. Впрочем, стоит ли выходить на самостоятельную и чреватую остаться совершенно непонятым тему? Претендовать на ее раскрытие лично я, пожалуй, не готов. Поэтому возвращаюсь к своему текущему сюжету, тем более что он почти завершен, как минимум, на правах наброска.
Возможно, мудрец окажется всего лишь халифом на час, однако после того как его распахнутость распахнула нас, мы сами стали тем, кто или что превращает из обособленности в распахнутость все остальное (тоже, конечно, по кратким временам, зато внутри этих кратких времен времени нет совсем). Превращает, правда, в силу того, что не делит сущее на себя и все остальное. Превращает, правда, в силу того, что не видит в качестве обособленности даже то, что пестует свою изоляцию изо всех сил. Так или иначе, теперь мы способны открываться не только в ответ – мы способны проявить открытость даже к тому, что выглядит как закрытое или что полагает себя закрытым, не оставляя ему шансов продолжать свое изолированное бытование как ни в чем не бывало.
Вот так, через постоянные оговорки мы прошли некоторый маршрут, убедившись, что доверить себя, например, Богу – значит перестать разделяться с ним, и если доверение себя Богу происходит, наша обособленность пересиливается, что само по себе устраняет или ослабляет целый ворох беспокойств, в связи с которыми мы ощущаем потребность в сторонней помощи или поддержке, а также ощущаем недостаточность этой поддержки, даже когда она оказывается не на словах, а на деле, ведь, оставаясь сторонней поддержкой, она лишь продлевает и даже усугубляет обособленность, а пока обособленность есть, будут и беспокойства.
Разумеется, предыдущий, подведший итоги, абзац также нуждается в оговорках. Как я уже отмечал, невозможно препоручить себя тому, в чем чувствуется чужесть, инаковость. Сначала оно перестает ощущаться как чужое, и лишь следом мы готовы предоставить себя в его распоряжение. Но если второй шаг невозможен без первого, тогда даже если мы, казалось бы, начинаем со второго шага, то есть доверяем себя, мы делаем оба шага. В общем, дело может представляться таким образом, будто мы (сначала) доверились чему-то и (потом) перестали быть обособленностью, но это лишь кажимость. Потому-то в призыве довериться тому, что человек пока что воспринимает как иное себе, имеются серьезные уязвимости, на которые уже было указано. Однако бог с ними, имеется куда более существенное затруднение.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов



