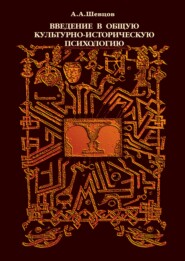 Полная версия
Полная версияВведение в общую культурно-историческую психологию
Для нас же важно, что именно через это парадигма Платона сливается с парадигмой Геродота, о которой разговор будет чуть позже: именно разные способы общепринятого в обществе управления и рождают разные нравы и обычаи.
Отчетливо видя значение управления для создания нужного ему общества, Платон, говоря об истинном разуме, связывает его с «подлинным и убедительным красноречием».
Убедительное – это то, которое учитывает особенности любой души, следовательно, нравы, обычаи и привычки, которыми она управляется.
Подлинное – это значит истинное, опирающееся на истинные разум и знание неизменного устройства души, на котором и развиваются нравственные различия людей разных типов мышления, принадлежащих к разным типам обществ.
Итак, еще раз о кибернетике или науке управления людьми:
«Поскольку сила речи заключается в воздействии на душу, тому, кто собирается стать оратором, необходимо знать, сколько видов имеет душа: их столько-то и столько-то, они такие-то и такие-то, поэтому слушатели бывают такими-то и такими-то. Когда это должным образом разобрано, тогда устанавливается, что есть столько-то и столько-то видов речей (читай – видов воздействия – А. Ш. Это мое примечание один из моих научных цензоров раздраженно пометил словами: «В современной психологии Платоновские “виды речи” стали коммуникативными стилями, а не вовсе какими-то “видами воздействия”») и каждый из них такой-то. Таких-то слушателей по такой-то причине легко убедить в том-то и том-то такими-то речами, а такие-то потому-то и потому-то с трудом поддаются убеждению. Кто достаточно все это продумал, тот затем наблюдает, как это осуществляется и применяется на деле, причем он должен уметь остро воспринимать и прослеживать, иначе он не прибавит ничего к тому, что он еще раньше слышал, изучая красноречие. Когда же он будет способен определять, какими речами какой человек даст себя убедить, тогда при встрече с таким человеком он сможет распознать его и дать себе отчет, что вот как раз тот человек и та природа, о которой прежде шла речь» (Платон, т.2, «Федр», 271с–272).
Платон в данном случае как бы путает понятия «природа» и «культура», то есть воспитание в данном случае. По крайней мере, он не дает определения ни того, ни другого, и если попытаться вывести их за него, то «природа» здесь включает в себя то, что правит человеком и над чем он в себе не волен.
Но это в действительности относится и к культуре, как к благоприобретенному, и к той основе, с которой человек родится, то есть собственно к человеческой природе, которую и пытается изучать современная физиологическая психология. Это разграничение надо внести в сказанное Платоном в соответствии с его же методом.
«Теперь она на самом деле предстала перед ним, и к ней надо вот так применить такие-то речи, чтобы убедить ее в том-то» (Там же, 272).
Что принципиально отличает Платона от большинства современных психологов, жестко исповедующих «естественнонаучный метод», – это строго заявленная цель любого его построения, даже если «озорник» Сократ почему-то ее скрывает в данной беседе. Но это только потому, что сколько же можно повторять одно и то же. Читатель всегда может восстановить ее из предыдущих бесед.
Платон никогда не исследует явление как таковое – просто описав его и потом пытаясь вывести из описания некую «структуру явления». Он всегда задается вопросом: зачем? Зачем ты хочешь понять явление? Чтобы использовать? Так и смотри, как оно устроено с точки зрения возможного использования. Разум – это и есть способность извлекать пользу. Вероятно, в этом Платон гораздо ближе нас к традиционному типу мышления, которое магично в силу того, что всегда нацелено на воздействие, управление и извлечение пользы. Иначе говоря, магично, значит, действенно. И уж в любом случае Платон гораздо ближе к объяснительной и прикладной психологии, чем к описательной. Эта действенность его метода, безусловно, делает его одним из творцов науки вообще, но, к сожалению, отнюдь не психологии, как мы ее знаем.
«Сообразив все это, он должен учесть время, когда ему удобнее говорить, а когда и воздержаться: все изученные им виды речей – сжатую речь, или жалостливую, или возбуждающую – ему следует применять вовремя и кстати: только тогда, и никак не ранее, его искусство будет разработано прекрасно и совершенно» (Там же).
Итак, припоминание того, что там, идет через познание того, что здесь. Принцип уже заявлен: «Кто собирается обмануть другого, не обманываясь сам, тот должен досконально знать подобие и неподобие всего сущего». Иначе говоря: хочешь знать истину, знай и умей распознавать ложь в совершенстве. В государстве ложь ярче всего проявляется в судах, где применяется ораторское искусство. Значит, «…тому, кто собирается стать хорошим оратором, совершенно излишне иметь истинное представление о справедливых и хороших делах или о людях, справедливых и хороших по природе либо по воспитанию. В судах (читай – в обществе – А.Ш.) решительно никому нет никакого дела до истины, важна только убедительность. А она состоит в правдоподобии.<…> Иной раз в защитительной и обвинительной речи даже следует умолчать о том, что было в действительности, если это неправдоподобно, и говорить только о правдоподобном: оратор изо всех сил должен гнаться за правдоподобием, зачастую распрощавшись с истиной. Провести это через всю речь – вот в чем будет состоять все искусство» (Там же, 272d–273). Эта последняя мысль великолепна и содержит в себе указание на еще один важный прием. Ведь создать ощущение правдоподобия и удержать его на протяжении всего произведения – это действительно основа искусства, а имя ему – цельность. Цельность чего? – можем задаться мы вопросом и увидим, что это цельность мира, а точнее, Образа мира, который ты создаешь. А это значит, что мы затрагиваем великое магическое искусство творения миров. Однако, это уже относится к теме мифологического или традиционного мышления. Опять же, не надо попадаться на слова шутника Сократа, Платон всего лишь обозначает здесь предмет исследования – «левую» часть души, который можно считать предметом психологии или человеческим мышлением. Итак, «смерть есть нечто», и это «нечто» – «не что иное, как отделение души от тела» (Платон, т.2, «Федон», 64с).
Что же такое душа, отделенная от тела, каковы ее признаки, если попробовать изучить ее проявления и следы в этом мире? Платон пользуется, условно говоря, «способом отщепов» или, как это называется, методом «отрицательной диалектики» – отделяет все лишнее слой за слоем, все, чему мы можем найти причину в земном.
«…свойственно философу пристрастие к так называемым удовольствиям?..» Нет, особенно к тем, что относятся к уходу за телом. «Если он настоящий философ <…>, его заботы обращены не на тело, но почти целиком – насколько возможно отвлечься от собственного тела – на душу». Философ «освобождает душу от общения с телом» (Там же, 64d–65).
А «как приобретается способность мышления?» <…> «Могут ли люди сколько-нибудь доверять своему слуху и зрению? Ведь даже поэты без конца твердят, что мы ничего не слышим и не видим точно. Но если эти два телесных чувства ни точностью, ни ясностью не отличаются, тем менее надежны остальные <…> Когда же в таком случае <…> душа приходит в соприкосновение с истиной? Ведь, принимаясь исследовать что бы то ни было совместно с телом, она – как это ясно – всякий раз обманывается по вине тела.<…> Так не в размышлении ли – и только в нем одном – раскрывается перед нею что-то от [подлинного] бытия? <…> И лучше всего мыслит она, конечно, когда ее не тревожит ничто из того, о чем мы только что говорили, – ни слух, ни зрение, ни боль, ни удовольствие» (Там же, 65–с).
Вот истоки Декартовского cogito – я мыслю, значит, я существую!
Как же достичь этого, каков способ? Очищением!
«…Достигнуть чистого знания чего бы то ни было мы не можем иначе как отрешившись от тела и созерцая вещи сами по себе самою по себе душой. Тогда, конечно, у нас будет то, к чему мы стремимся с пылом влюбленных, а именно разум. <…> А пока мы живы, мы, по-видимому, тогда будем ближе всего к знанию, когда как можно больше ограничим свою связь с телом и не будем заражены его природою, но сохраним себя в чистоте… <…> А очищение – не в том ли оно состоит (как говорилось прежде), чтобы как можно тщательнее отрешать душу от тела, приучать ее собираться из всех его частей, сосредоточиваться самой по себе и жить, насколько возможно, – и сейчас и в будущем – наедине с собою, освободившись от тела, как от оков?» (Там же, 66d–67d).
Платон был бы совершенно традиционен в своем понимании очищения, по крайней мере, насколько это показывает этнография, если бы не добавил чуть далее: «…истинное – это действительное очищенное от всех [страстей], а рассудительность, справедливость, мужество и само разумение – средство такого очищения» (Там же, 69b – с). Этим он как бы перекидывает мостик к современной психотерапии.
Итак, сквозь «убедительное ораторское искусство» Платон показывает, можно сказать, «левое» искусство. Зная его метод, логично будет предположить, что есть и «правая» часть того же явления. И это верно. Диалог «Федр» заканчивается именно ею.
Иначе говоря, далее, после определения правдоподобия, дается и способ определения истины или обосновывается необходимость ее достижения:
«…большинству людей правдоподобным кажется то, что подобно истине <…>…мы разбирали разные случаи подобия и показали, что лучше всего умеет его находить всюду тот, кто знает истину <…>….кто не учтет природные качества своих будущих слушателей, кто не сумеет различать существующее по видам и охватывать одной идеей все единичное, тот никогда не овладеет искусством красноречия настолько, насколько это возможно для человека» (Платон, т.2, «Федр», 273d – e).
В приведенном рассуждении весь Платоновский подход к искусству управления людьми – кибернетике. Зачем оно? Зачем овладевать им, тем более, что это непросто? Логика всего предыдущего нашего знакомства с Платоном подсказывает, что итогом должен стать Небесный мир. Проверим.
«Достичь этого без усилий нельзя, и человек рассудительный примет такой труд не ради того, чтобы говорить и иметь дело с людьми, а для того, чтобы быть в состоянии говорить угодное богам и по мере сил своих делать все так, чтобы им это было угодно. Ведь те, кто мудрее нас <…>, утверждают, что человек, обладающий умом, должен заботиться о том, как бы угодить не товарищам по рабству <…>, но своим благим владыкам, потомкам благих родителей. Поэтому, если путь долог, не удивляйся: ради великой цели надо его пройти <…> Сбудется, гласит поговорка, если кто пожелает, и это будет прекраснейший плод тех усилий» (Там же, 273е–274).
И мы не ошибемся, я думаю, если посчитаем, что в рамках земного мира задачи изучения человека и общества – служебны – это всего лишь способ освобождения. Освобождения от общества или от рабства, если угодно. Освобождение или преодоление общества выводит нас или в Небесный мир, если наш Образ мира его предполагает, или в мир чистой науки, если таков наш выбор. Но это не важно. С точки зрения психологической механики, это одно и то же – это телеологический, целеположный механизм управления, ведущий человека к сверхцели. Находясь в нем, любой, самый материалистически настроенный ученый, тем не менее работает на достижение Небесного мира Платона.
И вот такая интересная мысль в заключение этого рассуждения:
«С о к р а т. Относительно речей знаешь ли ты, как всего более угодить богу делом или словом?
Ф е д р. Нет, а ты?
С о к р а т. Я могу только передать, что об этом слышали наши предки, они-то знали, правда ли это. Если бы мы сами могли доискаться до этого, разве нам было бы дело до человеческих предположений?» (Там же, 274b – c).
С одной стороны, там, где разум наш не справляется, приходится пользоваться подпорками обычного мышления, но, с другой стороны, чем же на самом деле является вся жизнь Сократа, а вместе с ним и Платона, как не попыткой доискаться до божественной истины? Что мы увидели в Платоновских текстах глазом психолога? С одной стороны, постоянные описания длинных цепей обычного мышления, с другой стороны, напряженнейшую попытку вывести из этого материала закономерности так называемого понятийного мышления, а точнее работы разума.
Разум, разум! Вот что искали Сократ и Платон всю жизнь. Всего пара приемов, которые отличают думание или разумение от работы ума по образцам, то есть обычного мышления. Вот и весь итог жизни Сократа и всей его битвы за разум. Еще пару нащупал Платон, но нащупав их, он сделал еще одно открытие, которое и прославило его в веках. Он открыл идеализм.
Вот о нем следующий разговор.
«Правая» наука души
(Разум)
Как это ни странно на первый взгляд, но именно в учении Платона об «идеях» и «эйдосах», думается мне, скрываются глубинные возможности для психологии.
Начнем с того, что бытовое понятие «идеализма» на уровне «платонической любви» мы отбросим как дикую ошибку истории. Это всего лишь злой умысел Аристотеля и неверное понимание платонизма, основанное на формальной логике. Все это хорошо показано Лосевым в «Критике платонизма у Аристотеля» (Лосев, Критика…). Я с ним совершенно согласен со своей точки зрения.
Конечно, нам опять придется заглянуть в тексты Платона.
Однако объем этой работы никак не позволит мне сделать это хоть сколько-нибудь показательно. Поэтому обойтись без мнений ученых никак не получится. Тут первым стоит тот же Алексей Федорович Лосев (1893–1988), посвятивший теме «эйдосов» огромный раздел в «Очерках античного символизма и мифологии», если не считать множества других упоминаний и размышлений. Хочу я или не хочу, но сегодня опираться в исследовании этой темы необходимо на Лосева.
Но что такое учение Платона об «эйдосах», для психолога по Лосеву изучать не так-то просто. Его «Очерки» писались в начале двадцатых в общем-то еще молодым ученым. Молодым не как философ или филолог, а как человек.
Лосев той, долагерной, поры, для меня вообще не ученый. Если подойти к его работам с точки зрения исследования парадигм, т. е. сквозь вопрос: А что он хочет? – становится ясно: он всего лишь использует тот материал, что ему ближе всего, для творения произведений вполне художественных. Он поэт или художник, лепящий свои скульптуры из материала античной истории и философии, как современные модернисты варят их из металла, старых автомобилей или бутылок. Художественная ценность от этого ничуть не ниже. Материал добротен на удивление. Но вот где тут наука, а где «видение» – надо разделять.
Лосев писал уже из лагеря своей жене в 1932 году о состоянии, в котором создавались его ранние работы: «В те годы я стихийно рос как философ, и трудно было (да и нужно ли?) держать себя в обручах советской цензуры». «Я задыхался от невозможности выразиться и высказаться. Этим и объясняются контрабандные вставки в мои сочинения после цензуры, и в том числе (и в особенности) в “Диалектику мифа”.Я знал, что это опасно, но желание выразить себя, свою расцветающую индивидуальность для философа и писателя превозмогает всякие соображения об опасности» (Цит. по Тахо-Годи, с.24).
По поводу этих слов у меня возникает вопрос, связывающий их с психологией сообществ: считают ли представители научного сообщества упомянутую Лосевым цензуру одной из составных частей или одним из орудий своего сообщества? Или же открещиваются от нее как от явления «политического»? Я предполагаю, скорее, второе. Однако, кто сидел в цензуре, когда нужно было цензурировать научные работы? И чем принципиально, с психологической точки зрения, отличается состояние цензора от состояния ученого, выступающего «научным редактором»? Разве и тот, и другой не поставлены сообществом ради соблюдения и отстаивания его интересов? И когда «научный редактор» возмущается ненаучностью чьего-либо сочинения, что в нем возмущается? Что приходит в возмущение, если попытаться описать эту среду, способную быть спокойной или возмущаться, столкнувшись с чем-то ей инородным, иным, не соответствующим узнаваемым образцам, не соответствующим «давно ставшим общими местам»?
Работы Лосева – это стихия его личности, сращенная с крепчайшим научным исследованием. Это один из последних всплесков русского серебряного века. Нечто подобное наблюдается в начале серебряного века у любимого учителя Лосева Вячеслава Иванова в «Дионисе и прадионисийстве», а чуть позже в «Поэтике» Ольги Фрейденберг. Я назвал бы это направление антично-поэтическим жанром, творимым людьми, влюбленными в Древнюю Грецию, как в сказку, в которую они хотели бы сбежать из ужасного настоящего.
Именно такой образ Лосева вижу я, когда читаю его определение понятия «эйдос»: «…что получится, если мы попытаемся указанные выше три элемента – видение, живое единство и символическую существенность – соединить воедино и схватить эти три пункта в одном созерцании, в одном акте, – так, чтобы из этого получилось действительно общее и единое зерно всех возможных значений “эйдоса”? Мне кажется, что “эйдос” и “идея” есть л и ц о предмета, л и к живого существа» (Лосев. «Очерки…», с.233).
Это мифологическое видение. Оно постоянно присутствовало у Лосева даже в быту. Тахо-Годи прекрасно рассказывает об этом: «Есть мифы повседневной жизни: о цвете, свете, лунном освещении, электричестве, свечах, мифы прямо бытовые. Но особенное значение Лосев придает мифам социального порядка. Мифы пролетарской идеологии ничем не отличаются от мифов “капиталистических гадов и шакалов”; коммунистическая идеология создает свой миф о возможности безрелигиозного общества, хотя свою идеологию пролетариат возводит на степень мифа. <…> Широко распространявшиеся через газеты, журналы, лозунги идеи об усилении классовой борьбы при успехах социализма порождают миф о страшном мире, в котором “призрак ходит по Европе, призрак коммунизма”, “где-то копошатся гады контрреволюции”, “воют шакалы империализма”, “оскаливает зубы гидра буржуазии”, “зияют пастью финансовые акулы”.<…> “Картинка! – восклицает автор. – И после этого говорят, что тут нет никакой мифологии”» (Тахо-Годи, с.23).
Видение мира как мифа свойственно Лосеву-художнику. Но если его отделить, то выступает Лосев-ученый. И тут уже можно говорить определеннее. С одной стороны, Лосев – великолепный философ и филолог. Его исследование употребления Платоном слов «эйдос» и «идея» просто потрясает титанической добротностью труда. С другой стороны, именно на фоне этой потрясающей бережности и внимательности к слову античному, поражает в Лосеве чуть ли не нарочитая небрежность к слову русскому. Язык его загажен иностранными словами, которые употребляются к тому же в расхожем, бытовом значении, как например, «популярное сознание», тот же «анализ» вместо «исследование». Чуть позже наш глаз будет резать слово «момент», пришиваемое Лосевым к определениям «эйдоса».
При недостаточном знакомстве с творчеством Лосева может сложиться впечатление, что у него не было возможности изучать психологию всерьез, а сам он представляет собою тип этакого «чистого» философа, считающего, что философ изначально знает психологию даже лучше, чем психолог, и может говорить о психологии свысока, только потому, что психология еще совсем недавно выделилась из философии. Подобный подход, свойственный философам начала века, которые еще росли в научной среде, где психолог чаще всего был еще и профессором философии, я бы назвал поверхностно-философским снобизмом. Примером его я считаю попытку видного философа той поры профессора Н.О.Лосского во «Введении в философию» восемнадцатого года издания опровергать психологические наблюдения Д.Милля с позиций формальной логики. К сожалению, подробнее об этом говорить нет места.(Лосский, с.50–51).
Думается мне, что уже ко времени создания Лосевым своих ранних работ психология очень сильно отличалась от того, что думали о ней философы. В психологии накопился колоссальный материал исследований и было сделано огромное количество гипотетических предположений, большая часть которых оказалась несостоятельной. Однако отрицательное исследование на каких-то этапах развития науки важнее умозрительных утверждений, не соответствующих действительности. В психологии была уже вполне определенная парадигма, отличная от той, с которой психология выходила из философии, и которую, на мой взгляд, уже не видели за еще узнаваемыми чертами «чистые» философы. Не думаю, что сегодня, и даже в двадцатые годы, чистый философ может быть уверен, что он знает психологию не на бытовом уровне.
Однако все это не относится к Лосеву. Тахо-Годи пишет, что Лосев «был неизменным участником Психологического Общества при Императорском Московском Университете. Именно там, на последнем заседании 1921 г. (после этого оно было закрыто) <…> читал доклад «”Эйдос” и “идея” у Платона»» (Тахо-Годи, с. 7). Это значит, что он очень хорошо знал и парадигму и состояние, в котором русская и мировая психологии находились к двадцатым годам. Но самое для меня главное – это то, что он был близок к профессору Челпанову, видному философу и психологу, во многом стоявшему на культурно-исторических позициях. Одно это заставляет быть очень осторожным с оценками Лосева-психолога. Внимательное же изучение его работ неожиданно показывает, что он достаточно внимательно, несмотря на изоляцию России, следил за достижениями западной мысли и в психологии. По крайней мере, его возмущение по поводу пренебрежения «чистыми» философами психологической теорией гештальта показывает, что он был знаком и с этим разделом психологии мышления, которое Коул относит, скорее, к культурно-исторической парадигме. Приведу одно из таких Лосевских отступлений.
«Насколько глубоко въелся в европейскую философию, а главное, в европейское мироощущение рационализм и мертвящие схемы математического естествознания вместе с т. н. “формальной логикой”, что нам теперь уж совсем трудно понять самую простую вещь, а именно, что можно видеть общее, что “одно”, собственно, и не воспринимаемо, и не мыслимо без “иного”. В виде какого-то открытия звучит учение современных немецких психологов о Gestaltqualitaten (образных качествах – А.Ш.). Удивляются этому учению и даже оспаривают его; думают, что восприятие нарисованного треугольника вполне равносильно и адекватно сумме восприятий от трех линий; предполагается, что сумма трех восприятий и есть восприятие треугольника; и считают самостоятельный и ни на какие слагаемые не сводимый акт восприятия треугольника как чего-то целого – “мистическим туманом” и “мистическими выдумками”» (Лосев, «Очерки…», с.238).
Более того, некоторые факты дают основания считать, что Лосев потому “ворчит” на психологию, что сам он, по сути, занят, среди прочего, созданием именно новой психологии! И с высоты найденного недоволен положением дел в науке. Для меня это выглядит чрезвычайно естественным для любого, кто действительно хочет понять Платона. Правда, при этом Лосев выпадает из существующей на то время психологической парадигмы, точнее, парадигм. Но Лосев выпадает и из всех парадигм. Иногда в свое, иногда в будущее. Мне кажется, и психология мышления на том уровне, на каком ее попытался дать Лосев, еще во многом недоступна современной психологии.
Все это я считаю необходимым учитывать, знакомясь с теорией “эйдосов” по Лосеву.
Самое краткое определение «идеализма» Лосев дает в небольшой работке «История античной философии». Приведу его рассуждение целиком: «Обычно систему Платона именуют <…> идеализмом. Но термин “идея” имеет множество разных значений и в античной философии, и в другие историко-философские периоды, и даже у самого Платона. Для существенной характеристики платонизма он так же неудобен, как и термин “спекуляция”, и тоже ввиду разнообразных (и часто нефилософских) значений этого термина. Более подходящим термином был бы такой термин, как “эйдология” или “эйдологизм”, поскольку греческий термин “эйдос” хотя и значит то же самое, что идея, но не вызывает никаких ненаучных ассоциаций.
Итак, если по методу философия ранней классики есть интуитивизм, а средней – дискурсионизм, то зрелая классика античной философии была ноуменальным спекулятивизмом, или эйдологизмом, то есть не интуицией чувственно-материального космоса и не дискурсией над ним, но его диалектикой» (Лосев, 1989, с. 67–68).
«Но тогда что же такое платоновские идеи? – задается Лосев вопросом в “Истории античной эстетики”. – <…> Под влиянием новоевропейской абстрактной метафизики давно уже было забыто, что самое слово “идея» имеет своим корнем “вид”.Идея – то, что видно в вещи. В греческом языке это слово очень часто служит для обозначения внешнего вида вещи, наружности человека и пр. С таким значением оно попадается даже у Платона. Но если всмотреться в сущность вещи, в ее существо, в ее смысл, то он тоже будет “виден” и глазу и, главным образом, уму. Вот эта видимая умом (или, как говорили греки, “умная”) сущность вещи, ее внутренне-внешний лик, и есть идея вещи» (Лосев, История античной эстетики, 1994, с.150).

