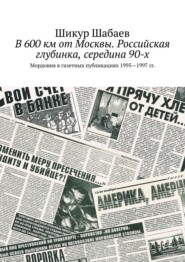
Полная версия:
В 600 км от Москвы. Российская глубинка, середина 90-х. Мордовия в газетных публикациях 1995—1997 гг.
Конечно, подобный принцип комплектования классов соблюдался не везде и не так уж строго, как здесь описано. Но что есть – то есть.
Решение, надо отметить, достаточно верное: посадите за одну парту великовозрастного недоросля и будущего потенциального Ломоносова – и ни один Макаренко не поручится за блестящее будущее нашей науки.
В тридцать девятой школе негласный порядок с некоторых пор стал гласным. Уже начальные классы делятся на гимназические (или академические; их два: с гуманитарным, художественным профилем и, так сказать, естественно-техническим), «обычные» и классы компенсирующего обучения (для детей с некоторой задержкой развития).
– В этих классах учатся совершенно нормальные, здоровые дети, – подчеркивает психолог Ольга Николаевна Романова. – Будь это иначе – их направили бы в спецучреждения. Просто им сложно в обычной «среднем» классе. Они отстают от своих ровесников, может быть, в силу каких-то своих физических особенностей, а чаще просто потому, что ими совершенно не занимаются родители. Невыдержанные, невнимательные, несообразительные. Со временем они, может быть, догонят в развитии своих ровесников (а то и перегонят!) – но для этого придется здорово поработать педагогам. Проблема.
КАК ЭТО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?
Вокруг этой проблемы переломано немало копий. В конце восьмидесятых не было газеты, которая не посвятила бы ей хотя бы пары статей. Классы педагогической поддержки, классы выравнивания, классы повышенного индивидуального внимания – как только эти образования не называли! Впрочем, с тяжелой руки некоторых родителей, иной раз их называли куда проще и грубее – «классы дураков». Говорят, этому способствовали и некоторые горе-учителя, намучившиеся с «трудными» учениками и, вероятно, что-то напутавшие с призванием.
– Если эти слова прозвучали – все, классы можно расформировывать, а педагогический эксперимент прекращать, – считает директор саранской средней школы N 23 Жанна Николаевна Бородачева. В школе работают опытные педагоги, отдавшие работе с детьми с задержкой развития не один год тяжелого труда. Сейчас идут напряженные поиски оптимальной системы обучения для талантливых ребятишек. И небезуспешно – рейтинг школы в микрорайоне повышается.
– Классы для «особенных» детей создавались в Мордовии уже в 1989—1990 годах, – рассказывает Валентина Семеновна Тиньгаева, главный специалист Министерства образования республики. – Правда, без достаточного научного обоснования, без документов, без творческих разработок. Сейчас все это есть. Существуют рекомендации Министерства образования России, Мордовского института дефектологии, разработки местных ученых и педагогов-практиков. И хотя споры о целесообразности формирования классов компенсирующего обучения продолжаются до сих пор, все больше педагогов склоняется к мысли, что к «особенным» детям и относиться нужно «по-особенному».
А КАК?
Облегченная учебная программа, адаптированная к особенностям развития ребят, порядок комплектования классов (от 9 до 16 человек – вместо 21 – 25 – 30), дополнительные занятия с профессионалами-педагогами и медиками – вот только некоторые из этих «особенностей».
В 1989—1990 годах в республике было 128 подобных классов (в 56 школах).
В 1990—91 годах – 78 классов в 39 школах.
В 1991—92 годах – 134 класса в 50 школах.
В 1992—93 годах – 183 класса в 66 школах (это был пик педагогического эксперимента).
В прошлом году классы дифференцировали: 81 класс компенсирующего обучения и 83 класса педагогической поддержки.
Сейчас, по данным Министерства образования, в республике 88 классов компенсирующего обучения в 48 школах. В основном, это саранские школы (49—24), или же расположенные в районных центрах, изредка в крупных селах. В Чамзинском районе, к примеру, открыто 6 таких классов (в 5 школах), в Ковылкинском 12 (4), Рузаевском 4 (4), Зубовополянском 4 (3), Инсарском 3 (2). Это и понятно: в малокомплектной школе, какими являются очень многие сельские школы республики, и без того в классах занимаются по 5 – 10 человек.
Другой школьный «полюс» – те самые будущие Ломоносовы, дети одаренные, способные с легкостью «переваривать» «типовую» учебную программу и даже сверх того. Все больше учебных заведений пытается подтянуть к этому уровню каждого своего воспитанника. В нашей небольшой республике уже 36 так называемых школ инновационного типа – лицеев, гимназий, «комплексов», экспериментальных «площадок», 14 школ-детских садов.
В штатных расписаниях средних учебных заведений появляются должности, прежде здесь не известные, не востребуемые – завучи и заместители директоров по научной работе, ученые, тренеры.
В 54 школах Мордовии открыто около двухсот классов с углубленным изучением различных предметов – гимназических, лицейных, академических… Почти половина из них (23 школы, 81 класс) находятся, само собой, в столице РМ. Рузаевка: 6—22; Лямбирь: 6—21; Ичалки: 2—17 (художественно-эстетический цикл). В 140 классах (62 школы) практикуется раннее и углубленное изучение иностранных языков. В 12 школах республики открыто более ста спортивных классов.
Есть еще одаренные дети в наших селениях!
ОТБОР
Как происходит отбор в специализированные классы, насколько он «естественен»? Скажем, в знакомой нам 39-ой школе?
– При формировании «академических» классов в первую очередь учитываются способности ребенка, его личное желание, желание родителей, – говорит школьный дефектолог Ангелина Юрьевна Козлова. – И здесь особых вопросов не возникает. А вот при отборе в класс компенсирующего обучения… Нет, в профессиональном плане у нас с психологом – а первые тесты проводим именно мы – затруднений почти нет. Если видишь: ребенок к школе подготовлен очень плохо, практически не концентрирует внимание, с трудом выдерживает даже 15—20 минут общения, излишне скован, боится шевельнуться или же, напротив, излишне раскован, готов «сесть на голову» совершенно незнакомому человеку, не различает простейшие отвлеченные понятия (зима – лето, добро – зло) – «диагноз» ясен. Хотя дети-то нормальные, обычные. Просто 5—6 лет домашнего «воспитания» (или, точнее, отсутствие его) сделали свое дело. Эти дети еще спят; спит – это еще хуже – их интеллект, и задача педагогов – пробудить их к жизни.
Рекомендации школьного психолога и дефектолога – это пока всего лишь рекомендации. Окончательное решение – за психолого-медико-педагогической комиссией. Комиссия городская – одна на все школы. Поэтому легко представить, что там творится накануне нового учебного года! Трудно сказать, можно ли в таком случае говорить о квалифицированном совете? Но то, что зачастую в этой толчее решается судьба маленького человечка – совершенно верно.
Дополнительная сложность состоит в том, что «представлять» ребенка непременно должны сами родители. А попробуйте убедить «заботливых» мамаш в том, что их дитяти лучше всего учиться в классе компенсирующего обучения. «Как, в классе для этих самых?.. Да он у меня нормальный, стеснительный только… Да я жаловаться на вас буду!» А иная мама просто отрежет: «Вам, учителям, это надо, вы за это деньги получаете – вы и бегайте».
ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ?
Компенсирующее обучение остается таковым до пятого класса.
Прежде подобный статус мог сохраняться хоть до окончания неполной средней школы. Сегодня прогрессивная педагогическая наука утверждает, что за три года любого нормального, но «запущенного» малыша любой «средний» учитель в состоянии довести до «среднего» уровня. Поэтому на пятом году обучения статус снимается; класс или расформировывается, а ученики «раскидываются» по параллельным классам, или дополняется до «норматива».
Возможно, в этом кроется особый педагогический смысл. В средних классах ребенок осознает свое место и в обществе, в целом, и в школе – в частности. Клеймо неудачника, комплекс неполноценности, приобретенные в подростковом возрасте, могут остаться на всю жизнь.
Однако, некоторые учителя считают, что основная причина расформирования классов компенсирующего обучения кроется в бедности государства. Да, вероятно, достигнуть среднего уровня может любой «средний» учащийся. Но при условии смены среды!
В данном же случае меняется только школа. Семья остается неизменной – и чаще всего неблагополучная семья. Хотя в 39-ой школе, например, могли вспомнить, как две девочки из класса компенсирующего обучения смогли перейти в класс гимназический. Родители, вдохновленные успехами своих дочерей, не жалели ни времени, ни сил, нашли репетиторов – в общем, постарались. К сожалению, это исключительные, единичные случаи.
Большей же части ребят – увы! – так и не суждено свободно оперировать такими понятиями, как «тангенсы-котангенсы», огромная часть знаний, накопленных человечеством, никогда не откроется им. Общество и семья пока не готовы к этому.
6 апреля 1995 года, «Республика молодая».
БОЙСЯ, ЖУРНАЛИСТ, НЕВЕРНОГО СОСЕДА
Уже не первую неделю рабочий день в республиканском Доме печати начинается с шумной своры на первом этаже – именно здесь располагается одно из представительств небезызвестной фирмы «Русский дом селенга». Едва ли не с рассвета выстраиваются обманутые вкладчики «РДС» в долгую очередь, пытаясь проследить судьбу своих денег и узнать хотя бы дату выдачи вклада. Это, в основном, достаточно обеспеченные люди, судя по одежде, – хотя, конечно, встречаются клиенты и «попроще». Некоторые терпеливо ждут вестей, большинство же ругается. Хотя чего ж ругаться, заметил один из преуспевающих молодых людей, выбираясь из толкучки: «В школе надо было лучше учиться – чтобы знать, куда деньги класть».
Страсти порой так накаляются, что поневоле приходит на память случай, приключившийся совсем недавно в белокаменной. Вооруженный ружьем 30-летний москвич ворвался в помещение банка «Реском». Захватив несколько заложников, он потребовал выдачи 28 миллионов. Впрочем, на вполне законных основаниях: налетчик оказался обманутым вкладчиком банка и при себе имел все необходимые ценные бумаги. Он, кстати, проявил лучшие качества Робин Гуда, потребовав выдать деньги и своим заложникам.
К банку, само собой, были стянуты спецподразделения, готовился штурм офиса. Но тут, к счастью, отыскалась супруга несчастного вкладчика. Когда ей вручили деньги, он добровольно сдался милиции.
Это, говорят, первый случай в России, когда террорист потребовал выдачи своих законных денег. Есть опасение, что пример окажется заразительным – число обманутых в стране выражается, по-видимому, уже в миллионах. Как бы и саранским журналистам не оказаться в заложниках…
20 апреля 1995 года, «Республика молодая».
НИЩАЯ СТРАНА, БЕДНЫЕ ДЕТИ…
У большинства этих детей живы родители, но малышам не повезло – их мамы и папы – пьяницы, дебоширы, а то и убийцы. Родительских прав многие из них лишены, а бедные дети-сироты находятся под опекой. Вот им-то и посвящалась акция милосердия, прошедшая в пятницу в саранской средней школе N36.
Организовали это доброе дело работники отдела по делам молодежи, образования и физической культуры администрации Октябрьского района. Они обзвонили, обегали десятки саранских предприятий, обивая пороги множества различных кабинетов. И практически никого из собеседников судьба обездоленных детей не оставила в покое. Было собрано около десяти миллионов рублей, это значит, что каждый из 120 детей-сирот в районе получит около ста тысяч. Деньги-то, конечно, не ахти какие, но сравните их хотя бы с социальным пособием в 11 тысяч рублей в месяц! На хлеб не хватит. А между тем в некоторых соседних регионах социальное пособие на детей-сирот доходит до 100 тысяч рублей. Возможно, мордовские власти считают, что, экономя на таких деньгах, они заштопают очередную дыру в республиканском бюджете.
Благотворительная акция в 36-й школе собрала самых разных людей. АО «Механизация» перечислила около двух миллионов рублей, миллион – ТЭЦ-2, чуть больше – фабрика декоративных тканей, 600 тысяч рублей – администрация района.
Многие саранские предприятия сами находятся в бедственном положении, но и они не отказали в помощи. Саранский пищекомбинат, к примеру, помог продуктами, детским питанием – на сумму почти в миллион рублей. Совхоз «Тепличный» прислал цветы и огурцы (а что, много фруктов и овощей купишь на государственное пособие?) Швейная фабрика – на грани остановки, но и она, тем не менее, прислала несколько курток. Представитель индивидуального частного предприятия «Тонус-экстра» перечислил 500 тысяч рублей и пообещал хотя бы двоим детям-сиротам ежемесячно выплачивать своеобразную стипендию. Перечислить всех просто невозможно… Нет, не очерствели мы. Спасибо!
20 апреля 1995 года, «Республика молодая».
ТРАГЕДИЯ МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ НЕ ТОЛЬКО В ТЕМНИКОВЕ
В республиканском штабе по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям к словам нашего корреспондента мало что смогли добавить. Сложилось впечатление, что к случившемуся отнеслись здесь без паники, спокойно. Да, на месте происшествия работают комиссии – районная и республиканская. В течение нескольких дней они вынесут свое компетентное решение, от которого и будут зависеть дальнейшие действия властей. Если «виноватой» признают стихию, как то: многоводные паводки, затяжные дожди или еще что-то в этом роде, то все последующие расходы по нормализации жизнедеятельности села Подгорное Канаково возьмет на себя центр, «Москва». Если же «крайними» окажутся проектировщики, неверно оценившие место строительства на крутом склоне холма, местное начальство, определившее это самое место, или строители, не заложившие достаточного запаса прочности строений (а в первую очередь, думается, дело обстоит именно так), расплачиваться придется, в основном, самим темниковцам. Да только вот как? Где взять деньги? Бог с ними, с виновниками – будем надеяться, что их нам назовут и накажут, главное сейчас: как помочь потерпевшим?..
В полной мере оценить ущерб от темниковского оползня довольно трудно – трещины продолжают свой зловещий бег по стенам близлежащих от места происшествия домов.
Владимир Викторович Яменков, заведующий отделом республиканского штаба по делам ГО и ЧС, рассказал нам, что случай в селе Подгорное Канаково – далеко не единственный в Мордовии, хотя по своим масштабам и не типичный. Угроза оползней остается и в некоторых других местах республики. Например, в селе Булгаково Кочкуровского района этой опасности подвергаются жители двух многоквартирных домов.
Здания пока не рушатся, но кто уверен, что будет завтра?
11 мая 1995 года, «Республика молодая».
Н.П.МАКАРКИН, РЕКТОР МОРДОВСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА ИМ. Н.П.ОГАРЕВА:
«НАША ШКОЛА НЕ ХУЖЕ ЗАПАДНОЙ…»
У семи нянек дитя без глазу… По словам ректора Мордовского госуниверситета НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА МАКАРКИНА, в настоящее время учебные заведения России подчинены более, чем двадцати министерствам и ведомствам. Аграрные вузы находятся в ведении Министерства сельского хозяйства, вузы, готовящие кадры для системы здравоохранения – в ведении Минздрава, машиностроительного профиля – под «крылом» соответствующих ведомств. То же самое – с учебными заведениями системы связи и транспорта… И эта ведомственная разобщенность очень здорово мешает проведению единой образовательной политики России. Мы часто говорим о необходимости вхождения в единое мировое образовательное пространство – и это процесс идет. И между тем у себя в стране не можем обеспечить это самое единство.
– Случается, специалистов одних и тех же специальностей готовят и университет, и институт, и техникум, – говорит Николай Петрович. – Хотя изначально ясно, что уровень подготовки таких спецов» будет совершенно различным. Так образом, распыляются и научные кадры, и деньги, и время.
Обсуждению этой проблемы – как и множеству других проблем интеграции региональных систем образования – будет посвящаться всероссийская научно-практическая конференция, открывающаяся на следующей неделе в Саранске.
– Наверное, не случайно что это научное собрание проходит в столице Мордовии, на базе нашего университета?
– Предложение выдвинули мы, Государственный Комитет по высшему образованию Российской Федерации поддержал нас. Да, конференция не случайно проходит на базе нашего университета – у нас в этой области накоплен достаточно большой – и практический, и научный – опыт. Об этом свидетельствуют следующие факты. В начале 1993 года при МГУ им. Н.П.Огарева создан Учебный округ, объединивший около семидесяти образовательных учреждений республики: все высшие, практически все средние профессиональные, несколько средних школ. Совсем недавно в университете начал работать естественно-технический лицей. Конечно, он существовал и раньше – влачил, так казать, существование, никак не мог найти своего угла, своего места. И теперь, я думаю, окончательно поселился в стенах МГУ – на базе нашего института физики и химии.
И еще один фактор – свидетельство наших достижений в области решения региональных проблем. Это существование у нас научно-исследовательского института регионологии, который возглавляет Александр Иванович Сухарев, мой предшественник на посту ректора.
Конференция уже сейчас привлекла внимание общественности России. Много желающих приехать к нам: проблема, которая будет обсуждаться, актуальна повсеместно. Идет процесс регионализации образования.
Актуальность проблемы объясняется целым рядом объективных причин. Одна из таких причин, как я уже отметил, ведомственная разобщенность образовательных систем. В любом регионе – крае, области, республике – они должны функционировать как единое целое. Как монолит, как некая образовательная пирамида.
Вершина ее – высшее и послевузовское образование (аспирантура и докторантура). Сюда же можно отнести институт повышения квалификации, где специалисты могут получить второе высшее образование или обновить свое основное.
Низ этой пирамиды – детские сады, школы, профессионально-технические училища.
Естественно, для того, чтобы проводилась единая образовательная политика и вся конструкция не рухнула вроде детских кубиков, в регионе должен быть и единый управляющий центр.
В Мордовии его роль играет Региональный учебный округ при нашем университете. Очень удачная, на мой взгляд, форма. Уже после нас создали похожий округ в Москве, при столичном педагогическом университете. Ректор университета, кстати, почти наш земляк – починковский, нижегородский – бывал здесь и очень внимательно изучал мордовский опыт.
Возможны, вероятно, и какие-либо иные организационные формы. Вот и об этом-то пойдет речь на предстоящей конференции.
– Вот вы, Николай Петрович, заговорили об образовательной пирамиде. А не считаете ли вы, что возводить ее сейчас куда сложнее, ем прежде. Авторитет образования, в том числе и высшего, падает…
– Возможно, некоторое время назад так и было. Но за последний год-полтора положение исправилось.
Ежегодно Мордовский университет увеличивает прием студентов – примерно на сто человек. Да, за счет государственного бюджета – то есть «бесплатно». К сожалению, в печати часто акцентируют внимание читателей на том, что в университете за учебу берут деньги. Разумеется, мы принимаем людей на контрактной основе. Ежегодно – около двухсот человек. Сравните с двумя тысячами студентами, принимаемыми за счет госбюджета – около десяти процентов. Жизнь заставляет…
Радует, что в прошлом году заметно возрос конкурс в нашу аспирантуру. Это значит, что несмотря ни на что тяга молодежи к образованию не пропала. Это значит, что у нас есть будущее.
В прошлом году у нас появилось рекордное количество докторов наук – одиннадцать (в позапрошлом году – восемь). В списке предполагаемых соискателей нынешнего года – 16 человек. Значит, человек 11—12 в этом году наверняка станут докторами. Кстати, мы начинаем готовить их у себя же – по четырем специальностям. Уже работают советы по защите докторских диссертаций. Так что, как бы ни было нам тяжело, мы смотрим вперед с оптимизмом.
Но проблема интеграции систем образования гораздо более широкая, чем я описываю, более многослойная. Скажем, мы ничего не говорим о сотрудничестве с зарубежными коллегами.
– В последнее время вы, Николай Петрович, часто бываете за границей. Скажите, наше высшее образование на самом деле безнадежно отстает от западного – как это часто описывают в газетах?
– Я лично знакомился с вузами Германии, Швеции, Финляндии, Англии, был в Соединенных Штатах. И уверен: наша высшая школа нисколько не хуже западной. Средняя же школа по уровню на голову выше заморской.
Приведу свежий пример. Гостил у нас недавно профессор из Голландии, из университета Утрехт. Некогда он был ректором университета, сейчас является проректором по международным отношениям. Экономист, специалист по менеджменту. Профессор читал лекции нашим студентам экономического факультета. Ознакомившись с нашими учебными планами, гость изумился: эти планы почти один к одному совпадают с учебными планами голландских студентов. Сами же мордовские студенты куда более любопытные, зная предмет, тем не менее, не хуже заморских ровесников.
Итоги же «самобичевания», вероятно, следует искать в извечном преклонении пред «ненашим», перед «импортным». Двигаться вперед нам мешало не отсутствие научного, творческого потенциала, а мешала система экономических отношений, мешал коммунистический режим. Если бы не было этой Октябрьской революции… Думаю, сейчас уже не менее 90 процентов россиян понимают гибельность нашего коммунистического пути.
Мы стали более открыты. Часто приглашаем иностранных специалистов и студентов к себе, ездим в гости сами. Сейчас, скажем, наши студенты учатся в Швеции, в международной школе бизнеса. Очень тесны связи с Финляндией. В следующем учебном году отправляем группу студентов в Англию – по специальности «социальная работа»… Вот она, интеграция в мировую образовательную систему.
– К сожалению, недостаточное знание иностранных языков препятствует более тесному сотрудничеству с коллегами из-за рубежа.
– Языковый барьер преодолевается с большим трудом. Наши студенты едут на запад не на экскурсии – необходимо прослушивать лекции, вести записи, конспектировать, работать. Но ничего, получается. Хотя еще бы не получаться! Чуть ли не десять лет наши ребята изучают иностранный язык в средней школе, несколько лет – в высшей. Громадное количество учебного времени отдается английскому и немецкому языку. И честно, тем не менее, добавим, языка так и не знают. А в той ж Швеции английский язык в вузах не изучается. Хотя владеют им почти все! Осваивать язык нужно в детстве, а не в двадцать лет. Вот поэтому мы и хотим кардинально перестроить обучение иностранному языку в университете. Это же гигантский механизм, работающий буквально вхолостую. Гоняем студентов, заставляет сдавать «тысячи», раздуваем штаты – и без толку. Не лучше ли все это время и средства отдавать профессиональной подготовке? Так что, скорее всего, мы со временем перейдем на добровольное изучение иностранного языка в вузе. Конечно, в порядке эксперимента – нужна санкция государственного комитета по высшему образованию. Без его разрешения мы не можем отказаться от государственных общеобразовательных стандартов.
18 мая 1995 года, «Республика молодая».
УНИВЕРСИТЕТ ДЕЛИТСЯ?
Несколько лет назад факультеты Мордовского университета им. Н. П.Огарева, готовящие специалистов сельского хозяйства, объединились в один агроинститут. Тем самым было положено начало «делению» МГУ.
– В нашем учебном заведении пять институтов и десять факультетов, – рассказал нам ректор МГУ им. Н.П.Огарева Николай Петрович Макаркин. – На недавнем заседании ученого совета мы приняли решение о преобразовании исторического факультета в историко-социологический институт. Уж очень большим стал социальный «блок» факультета. Социологическое отделение разрослось сверх всякой меры. Там готовятся специалисты и по социальной работе, и по регионоведению…
Этот процесс характерен не только для мордовского университета. И в центре, в Москве, в составах академий и университетов формируются институты.
Наши институты – это крупные учебные и научные
подразделения, которые, как правило, обладают территориальной «автономией» – чтобы непременно был «свой» учебный корпус, столовая, общежития, свой «хозяин» в виде директора института. Ярчайший пример этому – аграрный институт в Ялге. То же самое и с институтом электроники и светотехники. Тоже «свой», 16-й корпус – со своей инфраструктурой, своим директором. Тем самым ректорат избавляется от каких-то мелких, оперативных вопросов, а эти самые звенья получают большие полномочия.
Так, какие же институты входят в состав МГУ?
– Аграрный институт.
– Институт физики и химии.
– Институт электроники и светотехники.



