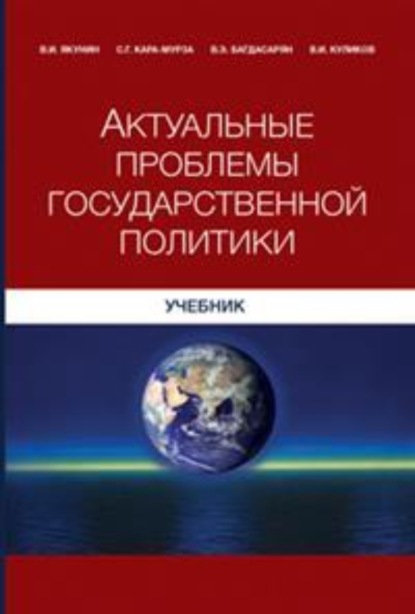 Полная версия
Полная версияАктуальные проблемы государственной политики
Революции постмодерна отличают несколько признаков.
1. В первой стадии такие революции носят ненасильственный характер. Модерн представлял общество и государство машинами. Происходящие в них процессы виделись как движение масс под действием сил. Соответственно и власть видела угрозы как массу противников, накапливающих силу, которую они и готовились обрушить на защитные силовые структуры государства.
Средства преодоления угрозы государству виделись в увеличении массы и силы. Рассуждения о «силе идей» воспринимались властью как метафора, второстепенный фактор. Такая власть, как показал опыт, не способна блокировать революцию, не применяющую «механической» силы. Ненасильственный характер революции нейтрализует силу, которой располагает государство, – насилие.
Технология «бархатных» и других аналогичных революций использует декларируемую свободу слова и собраний. Заложенные в праве свободы становятся инструментами революций, а отступление от них карается «ярлыком» тоталитарности политического режима со стороны «мирового сообщества». Именно использование легальных механизмов для нелегальных целей обеспечивает возможность для захвата органов власти, бессрочных акций протеста, забастовок и других подобных методов свержения власти.
Ненасильственный характер действий противника обессиливает государственный аппарат и раскалывает общество. Если власть отвечает насилием, слишком большая часть общества начинает сочувствовать диссидентам, и государству приходится тормозить, неся большие издержки.
В ходе «оранжевой» революции 2004—2005 гг. на Украине на Майдане была устроен палаточный городок, хорошо организованный и обеспеченный регулярными поставками продовольствия, одежды, лекарственных средств и др. При рассмотрении иска В. Ющенко об отмене выборов толпа блокировала Верховный суд Украины.
На деле декларация ненасильственного характера протеста – ширма, прикрывающая фактический захват органов власти, блокирование работы судебных учреждений и др., при неготовности власти использовать имеющиеся силы и средства. Возникает «паралич» власти, обеспечиваемый массированной информационной и политической атакой со стороны внешних сил, угрожающих применением различного рода санкций в случае каких-либо активных действий со стороны власти.
Уязвимыми в отношении «оранжевых» революций являются государства с усеченным суверенитетом, которые вынуждены сверять свои действия с тем, «что скажут в Вашингтоне». Напротив, реально независимые государства нечувствительны к таким технологиям. Скажем, «оранжевая» революция невозможна в США, поскольку там полиция разгоняет незаконные митинги вне зависимости от реакции «мировой общественности». Если государство способно противостоять «ненасилию» (как в Белоруссии), то спектакль тоже отменяется.
В 1995 г. США попытались организовать на Кубе «народные волнения» и послали самолеты разбрасывать над Гаваной листовки. Эти самолеты после всех предусмотренных приказов приземлиться были сбиты кубинскими истребителями. А когда в Майами была организована флотилия яхт и катеров «возлагать венки» в море, Куба предупредила, что вся эта флотилия будет потоплена. Все это было в рамках международного права – и Мадлен Олбрайт на Ассамблее ООН дала задний ход. Эту возможность Белоруссия и Куба имеют потому, что их властная верхушка действует исходя из обязанностей государства, а не теневых договоренностей. Похоже, таково положение и Сирии.
Важно!
«Бархатные» и «цветные» революции не могут быть истолкованы в логике разрешения социальных противоречий. Политологи с удивлением констатируют, что «ни одна из победивших революций не дала ответа на вопрос о коренных объективных причинах случившегося… о смысле и содержании ознаменованной этими революциями новой эпохи». Эти революции организуются так, чтобы использовать накопившееся недовольство масс и едва народившуюся революционную энергию для достижения политических целей, не связанных с разрешением социальных противоречий в интересах этих самых масс. Это технология постмодерна.
Так, в Польше у «Солидарности» также не было конструктивного проекта, она консолидировалась отрицанием (диссидент Адам Михник сказал: «Мы отлично знаем, чего не хотим, однако чего мы хотим, никто из нас точно не знает»). А движущей силой польской революции стали рабочие, уничтожавшие политический строй, наиболее отвечавший их фундаментальным интересам.
«Оранжевая» революция произошла в 2004 г., когда экономика Украины была на подъеме и доходы населения увеличивались. По темпам роста Украина после 2000 г. обгоняла все страны СНГ и считалась самой быстроразвивающейся экономикой Европы. В 2000—2003 гг. рост ВВП Украины в среднем составлял 7,3% в год, за пять месяцев 2004 г. реальные доходы населения выросли на 15,0%.
«Бархатных» революций, уничтожающих стабильное жизнеустройство с большим потенциалом развития, не могло бы произойти, если бы интеллигенция стран «реального социализма» не восприняла мыслительных норм постмодерна.
Подобный слом произошел в СССР в конце 80-х годов. Перестройка и начальная фаза рыночной реформы в СССР – чистый случай революции регресса, и его совершенно не могло предсказать советское обществоведение.
2. Отсутствие революционного большинства (элиты). Как показал опыт, в «цветных» революциях даже при слабых предпосылках удается сплотить массу людей очень сильной солидарностью. На короткий срок организуется целеустремленная толпа, обладающая коллективным разумом. Ее отличие от «классических» революций в том, что и цели, и структура, и действия толпы задаются извне, манипуляторами. Все атрибуты этой массы имеют встроенный механизм саморазрушения, так что после выполнения поставленной задачи у массы не остается ни целей, ни организации – в ходе революции не возникает политической воли и проекта.
Важно!
«Цветные» революции не порождают революционной элиты, которая могла бы выработать свой проект и развивать революцию. «Цветные» революции безопасны для их организаторов, после их завершения и роспуска толпы власть может отобрать ценные кадры активистов – россыпью, без всякой опасности для системы. Таким образом, создается политическая сила, готовая свергнуть власть – без какой-либо социальной цели и без связной идеологии.
3. Новые основания легитимности власти. «Цветные» революции не просто приводят к смене властной верхушки государства и его геополитической ориентации, а и принципиально меняют основание легитимности всей государственности страны. Меняется даже местонахождение источника легитимности, он перемещается с территории данного государства в метрополию, в ядро мировой системы капитализма.
Важно!
Существенный элемент технологии – внедрение в массовое сознание и закрепление в нем нескольких несложных стереотипов, отвечающих формуле незыблемой истины «они против нас». События трактуются исключительно с одной и единственной «верной» точки зрения. Через постоянное повторение одних и тех же лозунгов достигаются отказ от их рационального восприятия и переход к их восприятию на веру.
Этот процесс сопровождается созданием и энергичным внедрением внешних (символических) признаков отличия между «нашими» и «чужими» (розы и флаг с крестами в Грузии, «оранжевое» на Украине). Формируется мода на использование этих символов и принадлежность к «своим», а обывателю навязывается состояние страха оказаться за пределами «прогрессивной» части общества.
Следующим шагом становится создание невыносимых условий для работы государственных органов. Ненасильственные действия создают общий фон и на первой стадии вызывают симпатии населения и привлекают массовых участников. Однако с самого начала в толпе имеется «жесткая» военизированная группа, которая в решающий момент должна совершить насильственные действия (с оружием или без оружия в зависимости от обстоятельств). Именно такими группами являются молодежные движения (в Сербии «Отпор», на Украине 2004 г. «Пора», в 2013—2014 гг. «Правый сектор»).
Создание военизированных групп является необходимой частью «оранжевых» революций и потому, что новая властная верхушка далеко не всегда может быть уверена в лояльности прежних силовых структур. Поэтому на первый момент после свержения «коррумпированной диктатуры» новой власти нужен хотя бы небольшой контингент организованных «опричников».
4. Постмодерн стирает саму грань между революцией и реакцией, ведет к архаизации общественных процессов. Результатом революций постмодерна становится не только изменение власти, но и порождение, пусть на короткий срок, нового народа. Возникает масса людей, в сознании которых как будто стерты исторически сложившиеся ценности культуры их общества, и в них закладывается, как дискета в компьютер, пластинка с иными ценностями, записанными где-то вне данной культуры. В «цветных» революциях толпа на время приобретает самосознание народа (племени).
Важно!
Таким образом, «оранжевые» революции как революции эпохи постмодерна отличаются от революций эпохи модерна очень важным свойством. Они «включают» и в максимально возможной степени используют сплачивающий и разрушительный ресурс этничности. Революции индустриальной эпохи, даже будучи мотивированы задачами национального освобождения, сплачивали своих сторонников рациональными идеалами социальной справедливости. Они шли под знаменем интернационализма людей труда, с социальной риторикой.
Постмодерн отверг эту рациональность, уходящую корнями в Просвещение и представленную в данном случае прежде всего марксизмом, национализмом и близкими к нему идеологиями. Отвергая ясные и устойчивые структуры общества и общественных противоречий, постмодерн заменяет класс и нацию этносом, что и позволяет ставить насыщенные эмоциями политические спектакли, из которых исключается сама проблема истины. Здесь открывается пространство для ничем не ограниченной мифологии, ценность которой определяется только ее эффективностью.
Опыт показал, что политизированная этничность может быть создана буквально «на голом месте» в кратчайшие сроки, причем одновременно с образом врага, которому «разбуженный этнос» обязан отомстить или от которого должен освободиться. Достигаемая таким образом сплоченность и готовность к самопожертвованию по своей интенсивности не идут ни в какое сравнение с тем, что обеспечивают мотивы социальной справедливости или повышения благосостояния. При этом большие массы образованных людей могут прямо на глазах сбросить оболочку цивилизованности и рациональности и превратиться в архаичную фанатичную толпу. Власть, действующая в рамках рациональности Просвещения, с такой толпой в принципе не способна конструктивно взаимодействовать – здесь требуется освоить дискурс постмодерна.
5. «Цветные» революции – продукт «общества спектакля», особого состояния (типа карнавала), порожденного коллективным воображением. Опыт фашизма показал ограниченность тех теорий общества, в которых не учитывалась уязвимость надстройки – общественного сознания и воображения.
Структурный анализ использования воображения в целях превращения людей в толпу дал французский философ Ги Дебор в известной книге «Общество спектакля» (1967). Он показал, что современные технологии способны разрушить в человеке знание, полученное от реального исторического опыта, заменить его знанием, искусственно сконструированным «режиссерами». В человеке складывается убеждение, что главное в жизни – видимость, да и сама общественная жизнь – видимость, спектакль. И оторваться от него нельзя, так как перед глазами человека проходят образы, гораздо более яркие, чем он видит в своей обычной реальной жизни в обычное историческое время. Человек, погруженный в спектакль, утрачивает способность к критическому анализу и выходит из режима диалога, он оказывается в социальной изоляции.
Из истории политической науки

Ги Дебор (1931—1994)
Французский философ, художник и писатель
Основные сочинения: «Упадок и падение великой рыночной экономики» (1966), «Общество спектакля» (1967), «Комментарии к обществу спектакля» (1988)
Важно!
Последствия «цветных» революций ведут к фундаментальному изменению в судьбе государства и общества – разрыву непрерывности. Часть населения, подчинившись гипнозу революционного «спектакля», выпадает из традиций и привычных норм рациональности предыдущего общества – «перепрыгивает в постмодерн».
Однако при этом разрывается и связь с реальностью страны – ее новые ценности и «стиль жизни» не опираются на прочную материальную и социальную базу. Таким образом, главным вопросом становится – будет ли эта реальность меняться так, чтобы прийти в соответствие с новыми ценностями, или же обществу придется пройти через период тяжелой фрустрации и вернуться к прежним истокам.
Основные выводы
Свержение государственной власти с глубокими изменениями в ее структуре и функциях мы называем революциями.
В России в 1917 г. произошла не буржуазная революция, а отпор надвигающемуся капитализму! Эта революция была отрицанием капитализма с его разделением на классы, средством спасения от втягивания страны в периферию западного капитализма.
«Цветные» революции не означали смены политических элит и правящих верхушек, а вели к глубоким изменениям в государстве и обществе. Все они были призваны решать задачи не столько формационного характера, сколько цивилизационного. Для понимания и предвидения хода таких революций надо анализировать процессы, происходящие в культуре, идеологии и сфере массового сознания.
«Бархатные» и «цветные» революции не могут быть истолкованы в логике разрешения социальных противоречий
«Цветные» революции не порождают революционной элиты, которая могла бы выработать свой проект и развивать революцию. «Цветные» революции безопасны для их организаторов, после их завершения и роспуска толпы власть может отобрать ценные кадры активистов – россыпью, без всякой опасности для системы.
«Цветные» революции не просто приводят к смене властной верхушки государства и его геополитической ориентации, а и принципиально меняют основание легитимности всей государственности страны. Меняется даже местонахождение источника легитимности, он перемещается с территории данного государства в метрополию, в ядро мировой системы капитализма.
Оранжевые» революции как революции эпохи постмодерна отличаются от революций эпохи модерна очень важным свойством. Они «включают» и в максимально возможной степени используют сплачивающий и разрушительный ресурс этничности.
Последствия «цветных» революций ведут к фундаментальному изменению в судьбе государства и общества – разрыву непрерывности. Часть населения, подчинившись гипнозу революционного «спектакля», выпадает из традиций и привычных норм рациональности предыдущего общества – «перепрыгивает в постмодерн».
Контрольные вопросы
В чем заключаются фундаментальные отличия революций постмодерна от «классических» революций?
Почему марксистская теория социальной революции оказалась неспособной объяснить революции постмодерна?
Дайте характеристику основным отличительным признакам «цветных» революций.
Дополнительная литература
Кара-Мурза С.Г. и др. Революции на экспорт. М., 2005.
Карпович О.В., Манойло А.В. Цветные революции. Теория и практика демонтажа современных политических режимов. М., 2015.
Коровицына Н.С. Россией и без нее: восточноевропейский путь развития. М., 2003.
Шарп Д. От диктатуры к демократии. Концептуальные основы освобождения. Екатеринбург, 2005
Якунин В.И., Сулакшин С.С., Багдасарян В.Э. Новые технологии борьбы с российской государственностью. М., 2010.
Заключение. Политология
кризисного общества
Еще долго российская политология должна будет прилагать особые усилия для выявления и анализа проблем кризисной государственной политики и управления. В равновесном состоянии государства и общества локальные кризисы политическая наука может рассматривать как временные аномалии, для гашения которых есть ресурсы. В исторические периоды, когда кризисы самого разного рода идут чередой и соединяются в системы с кооперативным эффектом, усиливая друг друга, такой взгляд на политику и управление не годится.
Объекты анализа политолога не просто изменяются, можно говорить, что они перерождаются, так что привычные модели, показатели и критерии «отказывают». При лавинообразном нарастании потока проблем государство «захлебывается», ресурсов не хватает (а для разрешения необычных проблем их может вообще не быть). Резко возрастает неопределенность, перестают действовать привычные институты, возникают «серые зоны» и поднимают головы все антигосударственные силы, включая преступный мир. Общество травмировано, и для коммуникации с ним государству требуются новый язык (дискурс) и новые каналы связи. Возникают чрезвычайные условия политики и управления.
Рассмотрим ряд ситуаций, которые в ходе рефлексии философов, социологов и политологов отмечены как факторы успеха или неудачи политики в кризисный период. Все они отражают частные срезы системы кризисогенных факторов, все они взаимодействуют, усиливая друг друга. Задача государственной политики – расчленить эту систему и нейтрализовать ее элементы по частям.
Тяжелый и славный ХХ век оставил российским политологам ценнейший учебный материал. Его надо осваивать, отодвинув идеологические пристрастия.
1. Кризисная политика должна учитывать несоизмеримость чаяний и расхожих мнений населения.
Кризис активизирует в обществе процессы и дезинтеграции, и консолидации – как внутри отдельных общностей, так и в их связях, соединяющих в общество. Неопределенность и ощущение угрозы меняют оценки и приоритеты, подвижными становятся системы координат в сфере интересов и ценностей, распадаются и возникают социальные сети и каналы информации. На фоне этого текучего состояния возрастает роль фундаментальных вопросов народного бытия. Пойти на диалог по этим вопросам – и ресурс, и риски для власти.
Испанский философ Ортега-и-Гассет, переживший долгий раскол Испании, завершившийся гражданской войной, так ставит этот вопрос: в переломные моменты настоящий политик должен распознать чаяния народа – под текучим слоем расхожих мнений. Только в этом случае общество может объединиться вокруг политического проекта.
Цитата
Фихте гениально заметил, что секрет политики Наполеона и вообще всякой политики состоит всего-навсего в провозглашении того, что есть, где под тем, что есть, понимается реальность, существующая в подсознании людей, которая в каждую эпоху, в каждый момент составляет истинное и глубоко проникновенное чаяние какой-либо части общества.
Политика – это работа в равной мере и мысли, и волеизъявления; недостаточно каким-либо идеям промелькнуть в нескольких головах, надо, чтобы они получили социальную реализацию. А для этого необходимо, чтобы на службу идеям решительно устремилась энергия широких социальных групп.
Для того же, чтобы идеи нашли мощную поддержку, они прежде всего должны стать безоговорочно близкими для всех без исключения, всецело заполнить сердца.
Но случается так, что люди – одни из-за недостатка культуры, другие – в силу отсутствия рефлексивных способностей, третьи – потому что не получили от этого удовлетворения, четвертые – не имея мужества… – не смогли ясно увидеть, четко сформулировать свое глубинное внутреннее чувство. Отсюда та миссия, которую, согласно Фихте, и надлежит выполнить политику, настоящему политику: провозглашать то, что есть, отказываясь от витающих в воздухе и лишенных ценности расхожих суждений, от устаревших сентенций.
Х. Ортега-и-Гассет. Старая и новая политика
Когда власть нарушает эти правила, основа ее легитимности сильно повреждается. Примером служит зарождение культурного кризиса в конце 1950-х годов в СССР. Идеократическая основа государства была ослаблена «приземлением идеалов» – заменой далекого образа справедливой и братской жизни в общине критериями потребления, к тому же необоснованными («Догнать Америку по мясу и молоку!»). Обоснование государства включает две связанные вещи – утопию (идеал) и теорию (рациональное объяснение жизни и проекта будущего). Государственная идеология периода «оттепели» Хрущева испортила оба эти компонента и разъединила их. Утопия была уничтожена ее недопустимым приближением («нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме») и опошлением (коммунизм означает «бесплатный проезд в городском транспорте»). Теория была испорчена профанацией проекта и даже разумных программ (кампания по «внедрению кукурузы», «химизация народного хозяйства» и др.).
Элементы зарождающегося кризиса были соединены в систему во многом под воздействием дискурса власти.
2. В государстве, погружающемся в кризис, политика власти должна соединить две разные задачи: создать базовые условия для жизни населения и начать реализацию программы движения к «образу будущего.
Это соединение сложно, обе ценности несоизмеримы, взвесить их и протянуть связь – искусство политиков. Эта проблема дополняет постулат п. 1 – политик должен соединить чаяния «существующие в подсознании людей» с их «расхожими суждениями», т.е. с насущными обыденными потребностями.
«Образ будущего» всегда имеет свое актуальное социальное измерение – программа, сохраняющая жизнь сегодня, стабилизирует настоящее, оправдывая его грядущим «светлым будущим».
Полезный учебный материал дает опыт «военного коммунизма» трех правительств: царского, Временного и советского. Концепция продовольственной продразверстки, примененная в широком масштабе якобинцами (сторонниками экономического либерализма), была хорошо известна11. Германия приняла закон о хлебной монополии уже 25 января 1915 г.
В 1915 г. в России были установлены твердые цены и начались реквизиции, которые ударили только по крестьянам (помещики откупались взятками). 23 сентября 1916 г. была объявлена продразверстка. Она должна была быть доведена до каждого двора. К сдаче подлежало 772 млн пудов зерна. Объявленная на 1917 г. продразверстка провалилась из-за слабости государственного аппарата и коррупции. В феврале председатель Госдумы М.В. Родзянко подал царю записку: «Предполагалось разверстать 772 млн пуд. Из них по 23 января было теоретически разверстано: 1) губернскими земствами 643 млн пуд., 2) уездными земствами 228 млн пуд. и, наконец, 3) волостями только 4 млн пуд. Эти цифры свидетельствуют о полном крахе разверстки».
В начале 1917 г. возникли перебои в снабжении хлебом Петрограда и ряда крупных городов, а в феврале произошли революция и свержение монархии.
Временное правительство, будучи буржуазным и либеральным, также принимает закон о хлебной монополии уже 25 марта 1917 г. Владельцы продовольствия должны были весь хлеб за вычетом собственного потребления и хозяйственных нужд передавать в распоряжение государства. С 20 августа 1917 г. предписывалось применять вооруженную силу к тем, кто утаивал хлеб. Практически Временное правительство оказалось недееспособным. 16 октября 1917 г. министр продовольствия С.Н. Прокопович заявил, что «хлебная монополия, несмотря на удвоение цен, оказывается недействительной и… при данном положении дел для хлебных заготовок придется употреблять военную силу». По продразверстке 1917 г. было собрано ничтожное количество – 30 млн пудов зерна (около 1% урожая). Причина – слабость власти и ее социальной базы, отказ правительству в легитимности из-за расхождения его проекта с ценностями большинства.
Cоветское правительство ввело продовольственную диктатуру 9 мая 1918 г. В хлебные районы посылали рабочие продотряды, половина добытого ими зерна поступала предприятию, половина государству. Эти отряды составили затем государственную Продармию, которая насчитывала 41 тыс. человек. В 1919/20 г. собрали 260 млн пудов, что составляло менее половины довоенного экспорта зерна. Эти меры устранили угрозу голодной смерти (но не голода) в городах и в армии. Пайками обеспечили практически все городское население и часть сельских кустарей (всего 34 млн человек). За счет этого горожане получали от 20 до 50% потребляемого продовольствия (остальное давал «черный рынок»). Более того, продразверстка укрепила авторитет власти и среди крестьян – для них главное было прекращение смутного времени.
3. Эффективная политика в условиях кризиса требует немедленных мер и отказа от догм.
Рассмотрим близкие нам примеры политических решений – усугублявших кризис или преодолевающих его.
После Февраля 1917 г. целью Временного правительства было создание государства западного типа. Но М. Вебер предвидел, что в случае поражения монархии через прорванную кадетами плотину хлынет антибуржуазный революционный поток, так что цели либералов станут недостижимы. Аграрная реформа, которую предлагали кадеты, «по всей вероятности мощно усилит в экономической практике, как и в экономическом сознании масс, архаический, по своей сущности, коммунизм крестьян… что должно замедлить развитие западноевропейской индивидуалистической культуры» – вот вывод Вебера. Несмотря на эти предупреждения, Временное правительство ликвидировало структуры «старого режима». Были ликвидированы посты губернаторов и градоначальников, полицейские и жандармские должности и управления. В армии была проведена чистка командного состава (за первые недели была уволена половины действующих генералов). Керенский признал уничтожение российской государственности одним из важнейших явлений февральской революции.



