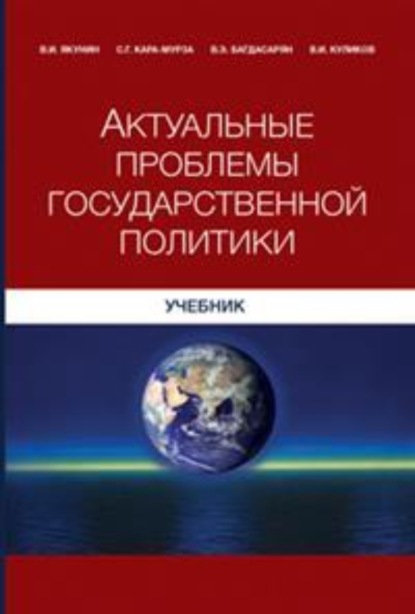 Полная версия
Полная версияАктуальные проблемы государственной политики
Фрустрация, вызванная обманутыми надеждами, обусловленными сменой режима или политики, – очень важное побуждение к насилию.
Цитата
Только большой гений может спасти князя, который обязуется облегчить участь своих подданных после долгого гнета. Зло, которое терпеливо сносили как неизбежное, становится нестерпимым, коль скоро воспринята идея избавления от него. Тогда все устраненные злоупотребления представляются менее значимыми в сравнении с теми, что остались, так что ощущение их становится более болезненным. Зло действительно стало меньшим, но более острой становится чувствительность к нему. Феодализм на вершине своего могущества не возбуждал во французах столько ненависти, как на исходе своего существования.
А. Де Токвиль. Старый порядок и революция
В истории человеческих обществ существует роковой закон, который почти никогда не изменял себе. Великие кризисы, великие кары наступают обычно не тогда, когда беззаконие доведено до предела, когда оно царствует и управляет во всеоружии силы и бесстыдства. Нет, взрыв разражается по большей части при первой робкой попытке возврата к добру, при первом искреннем, быть может, но неуверенном и несмелом поползновении к необходимому исправлению. Тогда-то Людовики Шестнадцатые и расплачиваются за Людовиков Пятнадцатых и Людовиков Четырнадцатых.
Ф.И. Тютчев, 28 сентября 1857 г.
Когда мы говорим о фрустрации и депривации, имеются в виду чувства обиды и несправедливости, вызванные широким спектром политических, социальных и культурных факторов, а не только уровнем материального благосостояния. Любой тип конфликта, даже сугубо экономического, приобретает черты конфликта ценностей. Уже Аристотель писал, что расхождения в понимании социальной справедливости ведут к ценностной несовместимости: «Всякий раз, когда одна или другая часть не может быть удовлетворена таким политическим влиянием, какое согласуется с их собственной концепцией справедливости, она становится источником призыва к мятежу».
Интенсивное чувство несправедливости легко политизируется, поэтому более жесткими являются акты насилия, которые сосредоточены на политической системе. В последние десятилетия большинство актов коллективного насилия имели объектом воздействия политические объекты.
Ряд исследователей считают, что необходимой (однако, разумеется, не единственной) причиной революции является «элитная непримиримость» – категорическое нежелание пойти на назревшее изменение политического курса. Ч. Джонсон пишет в большом труде о революциях: «В наиболее грубой своей форме элитная непримиримость – это откровенное волевое проведение элитой реакционной политики, т.е. такой политики, которая скорее обостряет, нежели упорядочивает рассинхронизацию социальной структуры, или политики, которая нарушает формальные ценностные нормы системы».
Ценностный раскол общества – латентный фактор, побуждающий к политическому насилию. Политологи должны учитывать ситуации, когда группы населения прибегают к политическому насилию, не имеющему шансов на успех, – моральные факторы пересиливают инстинкт сохранения. Т. Гарр пишет: «Политическое насилие может повысить общую сумму удовлетворенности. Это может быть справедливым для тех случаев, когда само насилие и его непосредственное воздействие оцениваются выше материальных и человеческих ресурсов, которые оно потребляет, или в тех случаях, когда насилие обеспечивает общепризнанную регуляторную функцию».
Такую функцию в прошлом выполняли, например, крестьянские бунты и восстания, что отражается в фольклоре.
Важно!
Очевидно, что, помимо мотивов, для политического насилия требуются условия, при которых это действие имело бы шансы на минимально приемлемый уровень успеха. Люди обдумывают, оправдан ли тот риск, которому они подвергают себя, оценивают шансы, хотя и знают, что вероятность ошибки велика. Важнейшее условие – это баланс между способностью недовольных людей к действию и способностью правительства подавить или перенаправить их гнев.
Поэтому анализ групповой мобилизации и политической акции требует совместить изучение мотивов (обид) и убеждений с анализом мобилизации как процесса. Структура такого анализа сложна: надо определить уровень и длительность культурных санкций на насильственные действия в обществе в данный момент; надо оценить действенность (качество) символических призывов, оправдывающих насилие, и эффективность каналов их распространения; надо трезво оценить легитимность политической системы и ее реакцию на сигналы о справедливости и обидах, которые направлялись власти – и решить множество иных задач.
Величина политического насилия в системе и формы, которые оно принимает, частично детерминированы масштабами и интенсивностью политизированной неудовлетворенности, которая выступает необходимым условием обращения к насилию в политике. Однако каким бы интенсивным и сосредоточенным ни был порыв к насилию, на его актуализацию в конкретной политической общности оказывают сильное влияние типы коерсивного контроля и институциональной поддержки. Если режим и те, кто ему противостоит, обладают приблизительно равными степенями коерсивного контроля и институциональной поддержки, мы будем иметь дело с политическим насилием максимальной величины, и оно с наибольшей вероятностью примет форму внутренней войны. Коерсивные возможности режима и обычная практика их применения – это решающие переменные, оказывающие влияние и на формы, и на длительность насилия – как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
Т.Р. Гарр. Почему люди бунтуют
§ 4. Политическое насилие в эпоху постмодерна
В последние десятилетия происходят большие сдвиги в культурах практически всех обществ – форсированная модернизация в одних, мобилизация «бунтующей этничности» под давлением глобализации в других, быстрые переходы «порядок – хаос» из-за кризисов, необычных войн и терроризма, массовой миграции с возникновением в индустриальных обществах «нового трайбализма» и др. Это разные срезы системного кризиса индустриализма (переход к «постиндустриальному» обществу). Одно из проявлений – появление новых типов и новых мотиваций для политического насилия. Трудно понять рациональность и ценности и диссидентов, и противостоящих им властей, и внешних сил, которые вмешиваются в эти конфликты. В научных лабораториях проектируются «цветные» революции, которые разрушают благополучные государства, народы остаются на пепелище и не могут понять, что за наваждение втянуло их в самоубийственный поход.
Важно!
Постмодернистский характер политических технологий, применяемых при «демократизации» государств переходного типа, проявляется в архаизации общественных процессов, однако это ничего не объясняет. Вот пример: одним из проявлений этой архаизации стал политический луддизм, новый вид политического насилия. Речь идет о том, что во многих регионах мира оппозиция демонстративно препятствует работе власти вообще – борется не против конкретной политики, а отвергает власть как институт, образно говоря, разрушает «машину государства».
Для выборов в Южной Азии (Шри-Ланка, Индия, Бангладеш) на первом этапе после освобождения было характерно, «что протестующие толпы людей нападают на правительственные здания и уничтожают их и государственное имущество, парализуя общественные учреждения и службы, то есть тот самый общественный капитал и инфраструктуру, которые созданы для их обслуживания» (С. Тамбиа).
Политический луддизм был применен в ходе «оранжевой» революции на Украине в 2004 г. Трудно было ожидать, что он органично впишется в политические технологии страны с все еще высокообразованным населением. В полномасштабном и трагическом виде эта технология была применена в Киеве и в 2013—2014 гг.
Эта сторона «оранжевой» революции вдохновила и некоторых российских политтехнологов-постмодернистов. Они увидели в ней новую форму политического действия. Как пишут, суть ее в «организационном оформлении широкого народного движения нового типа, которое будет видеть смысл и цель своего существования не в борьбе за власть, а в борьбе с властью. Отсюда, от этого полюса, будет постоянно исходить импульс атаки на любую власть, какой бы она ни была по персонально-качественному составу или идейно-политической ориентации. В случае возникновения и организационного оформления этого полюса в России может возникнуть инструмент эффективного, не отягощенного конформизмом посредников воздействия на власть».
Западные философы говорят о возникновении общества спектакля. Г. Лебон сказал о толпе, что «нереальное действует на нее почти так же, как и реальное, и она имеет явную склонность не отличать их друг от друга». Стирание грани между жизнью и спектаклем – тревожный сдвиг в культуре. Это происходило, как писал М. Бахтин, при ломке традиционного общества в средневековой Европе. Сегодня эти культурологические открытия делают политические технологии.
Из истории политической науки:
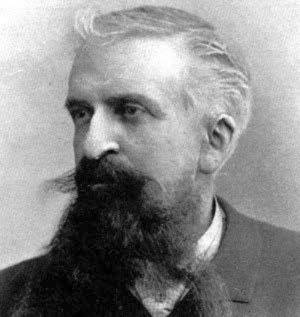
Гюстав Лебон (1841—1931)
Французский социолог, антрополог и историк.
Основные сочинения: «Психология народов и масс» (1885), «Психология воспитания» (1902), «Психология социализма» (1908)

М.М. Бахтин (1895—1975)
Русский философ и культуролог, специалист в области европейской культуры и искусства.
Основные сочинения: «Проблемы творчества Достоевского» (1929), «Вопросы литературы и эстетики» (1975), «Эстетика словесного творчества» (1979)
Мощное средство ослабить (или даже разрушить) государство переходного типа – превращение выборов в политический театр, завершая спектакль этническим насилием. Оно не ставит перед собой никаких целей, понятных в традиционной рациональности, – это аномалия неустойчивых синкретических культур.
Идеальное описание демократии как разумной системы, в которой рациональный индивид делает свой выбор по принципу «один человек – один голос», есть условность западного общества. Во многих культурах на этапе модернизации демократия есть способ политического действия масс. Апелляция к этническим ценностям «почвы и крови» в государствах переходного типа не есть извращение принципов демократии. Согласно антропологическим исследованиям, это и есть действительная суть западной демократии, скорректированная реальностью этих государств. Это называют «парадоксом Уайнера», смысл его в том, что именно демократические процедуры, а не их искажение и порождают этническое насилие.
В современной политологии, особенно в государствах переходного типа, должна появиться совершенно новая глава о генезисе и развитии структур политического насилия, порожденных синтезом постмодерна и архаики.
Цитата
«Демократические» политические выборы в недавно получивших независимость странах представляют собой один из основных компонентов саги о коллективном насилии. Более того, поскольку в рассматриваемых нами обществах ставки на выборах и их результаты представляются очень высокими и важными и поскольку выборы позволяют и фактически поощряют преднамеренное выражение и осуществление поляризующей враждебности, постольку они вполне могут затмить все ранее имевшиеся случаи периодических вспышек рутинного насилия…
Ориентация на толпу и мобилизацию масс открывает дверь для подготовки и распространения лозунгов и идеологий, рассчитанных на коллективы людей и на обращение к коллективным правам групп, определяемых на основе «сущностных принципов» («substance codes») крови и земли. Сегодня «этничность» служит самым мощным возбудителем энергии, воплощая в себе и выражая религиозные, языковые, территориальные и классовые самосознания и интересы; этничность является также тем прикрытием, под сенью которого ищутся решения и сводятся личные, семейные, коммерческие и другие местные счеты.
С. Тамбиа. Национальное государство, демократия
и этнонационалистический конфликт
Основные выводы
Одна из критических проблем государственной политики – политическое насилие. Оно может быть направлено против существующей власти и порядка или, напротив, применяться государством или его союзниками для подавления сил, посягающих на власть и порядок
Основные классы, на которые условно делятся эпизоды политического насилия, – беспорядки, заговоры, внутренние войны. Беспорядки – относительно спонтанное насилие со значительным участием населения (забастовки, бунты, столкновения и местные восстания). Заговор – высокоорганизованное насилие с ограниченным участием населения, включая политические теракты, маломасштабные партизанские войны, перевороты и мятежи. Внутренняя война – высокоорганизованное насилие с широкомасштабным участием населения, партизанские и гражданские войны, революции. Границы между этими категориями размыты, процессы динамичны.
Условия, вызывающие неудовлетворенность, даже политизированную, и установки на насилие могут присутствовать долгое время в латентном состоянии. Сдвиг к открытому конфликту – процесс нелинейный, и лишь по достижении порога начинается цепная реакция насилия. Этот порог может быть отодвинут разными средствами, например усилением коэрсивного (подавляющего) контроля или программой расширения институциональной поддержки власти в обществе.
Основные из причин обращения к политического насилию – психологические и социально-психологические мотивы. Самые распространенные из них обозначаются терминами «фрустрация» и «депривация». Фрустрация – состояние, возникающее вследствие какой-то непреодолимой помехи, препятствующей достижению цели; проявляется в ощущениях гнетущего напряжения, тревоги, отчаяния, гнева. Депривация – чувство, которое люди испытывают, когда находят свое положение неблагоприятным в сравнении с положением других индивидов или групп.
Помимо мотивов, для политического насилия требуются условия, при которых это действие имело бы шансы на минимально приемлемый уровень успеха. Люди обдумывают, оправдан ли тот риск, которому они подвергают себя, оценивают шансы, хотя и знают, что вероятность ошибки велика. Важнейшее условие – это баланс между способностью недовольных людей к действию и способностью правительства подавить или перенаправить их гнев.
В последние десятилетия происходят большие сдвиги в культурах практически всех обществ – форсированная модернизация в одних, мобилизация «бунтующей этничности» под давлением глобализации в других, быстрые переходы «порядок – хаос» из-за кризисов, необычных войн и терроризма, массовой миграции с возникновением в индустриальных обществах «нового трайбализма» и др. Это разные срезы системного кризиса индустриализма (переход к «постиндустриальному» обществу). Одно из проявлений – появление новых типов и новых мотиваций для политического насилия. Трудно понять рациональность и ценности и диссидентов, и противостоящих им властей, и внешних сил, которые вмешиваются в эти конфликты. В научных лабораториях проектируются «цветные» революции, которые разрушают благополучные государства, народы остаются на пепелище и не могут понять, что за наваждение втянуло их в самоубийственный поход.
Постмодернистский характер политических технологий, применяемых при «демократизации» государств переходного типа, проявляется в архаизации общественных процессов, однако это ничего не объясняет. Вот пример: одним из проявлений этой архаизации стал политический луддизм, новый вид политического насилия. Речь идет о том, что во многих регионах мира оппозиция демонстративно препятствует работе власти вообще – борется не против конкретной политики, а отвергает власть как институт, образно говоря, разрушает «машину государства».
Контрольные вопросы
Дайте характеристику основным классам политического насилия.
В чем различие рациональности политического насилия социальных и этнических общностей?
Какую роль в развитии конфликта с насилием играет кооперативный эффект ценностных и материальных факторов? Приведите примеры затяжных интенсивных конфликтов со сложной структурой мотивации.
Назовите примеры исторических блоков групп с несовместимой мотивацией в ходе политических конфликтов с насилием.
Какие новые формы политического насилия вносит культура постмодерна?
Дополнительная литература
Гарр Т.Р. Почему люди бунтуют. СПб., 2005.
Дмитриев А.В., Залысин И.Ю. Насильственные политические конфликты. М., 2007.
Капустин Б.Г. К понятию политического насилия // Полис. 2003. № 6.
Норт Д., Уоллис Д., Вайнгаст Б. Насилие и социальные порядки. Концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества. М., 2011.
Сорокин П.А. Человек, цивилизация, общество. М., 1992.
Глава 20. Революции модерна и постмодерна
§ 1. Господствующее понимание революции
и его основные черты
Свержение государственной власти с глубокими изменениями в ее структуре и функциях мы называем революциями.
Чтобы понять особенности современного поколения революций, надо вспомнить привычное для нашего общества понятие социальной революции, проникнутое идеями марксизма. «Философский словарь» (1991) гласит:
Революция – коренной переворот в жизни общества, означающий низвержение отжившего и утверждение нового, прогрессивного общественного строя; форма перехода от одной общественно-экономической формации к другой… Переход государственной власти из рук одного в руки другого класса есть главный, основной признак революции. Революция – высшая форма борьбы классов.
Выделим тезисы этого определения.
1. Революция – явление прогрессивное. Ее определению присущ прогрессизм.
2. В понятие не входят «коренные перевороты в жизни общества», не предусмотренные формационным подходом. Этому определению присущ экономицизм.
3. Революция – форма классовой борьбы. В понятие не входят «коренные перевороты», вызванные между общностями, не являющимися классами (национальными, религиозными, культурными и др.).
Это понятие – фильтр, через который не видны многие типы революций, определявших судьбу народов. Значит, обществу не видна и суть исторического выбора, перед которым его ставит революция.
За последние 200 лет в мире не произошло революций, отвечающих данному выше определению – ему отвечали только буржуазные революции. В ХХ в. прошла мировая волна революций не в классовых, а в сословных обществах «крестьянских» стран, затем волна национально-освободительных революций, а в последние десятилетия – волна «бархатных» и «цветных» революций.
Маркс изучал классовое буржуазное общество (на материале Англии) и назревающую в нем, как он предполагал, пролетарскую революцию. В его доктрине любая политическая борьба сводилась к экономическим причинам и борьбе классов. Это крайняя абстракция. Конфликты на экономической почве – лишь один из многих типов конфликтов.
Из истории политической науки
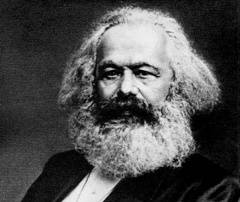
Карл Маркс (1818—1883)
Немецкий философ и экономист. Разработчик теории классовой борьбы, теории прибавочной стоимости, диалектического и исторического материализма.
Основные сочинения: «Немецкая идеология» (1846), «Манифест коммунистической партии» (1848), «Капитал» (1867)
Мы наблюдали революционную трансформацию «обществ советского типа» в СССР и странах Восточной Европы. Сильным движением была польская «Солидарность», но ее мотивация была не классовой. Как писали социологи, «ее идеалы были бесконечно далеки от социокультурной реальности общества либерально-демократического типа, от рыночной экономики, частной собственности, политического плюрализма, западной демократии».
По Марксу, условием пролетарской революции является глобальный характер господства капитализма. Попытка в отдельной стране произвести «преждевременную» революцию трактовалась как реакционная. Но общества, не проваренные в котле капитализма, являются не классовыми, а сословными. Классы и сословия – разные структуры. А в России в начале 1917 г. фабрично-заводских рабочих с семьями было 7,2 млн человек, из них взрослых мужчин 1,8 млн 85% населения были крестьяне. Поэтому Ленин писал: «Лев Толстой – зеркало русской революции».
Из истории политической науки

В.И. Ленин (1870—1924)
Советский государственный и партийный деятель, марксист, известен своей оригинальной интерпретацией идей К. Маркса, известной как марксизм-ленинизм.
Основные сочинения: «Материализм и эмпириокритицизм» (1909), «Империализм как высшая стадия развития капитализма» (1916), «Государство и революция» (1917)
Важно!
В России произошла не буржуазная революция, а отпор надвигающемуся капитализму! Эта революция была отрицанием капитализма с его разделением на классы, средством спасения от втягивания страны в периферию западного капитализма. Те, кто стремились стать «частью Запада», выступали против советской власти, даже и под красным знаменем социализма.
Так, в Грузии было социалистическое правительство с правящей марксистской партией. Оно вело войну против большевиков. Премьер Грузии (член ЦК РСДРП) объяснил это в своей речи 16 января 1920 г.: «Наша дорога ведет к Европе, дорога России – к Азии. Я знаю, наши враги скажут, что мы на стороне империализма. Поэтому я должен сказать со всей решительностью: я предпочту империализм Запада фанатикам Востока!»
Революция в странах периферийного капитализма, как Россия, неизбежно приобретала не только антибуржуазный, но и национально-освободительный характер. Теория этой революции получила развитие на опыте других крестьянских стран (Китая, Мексики, Индонезии, Вьетнама и др.).
Опыт истории говорит, что модель классовой прогрессивной революции – частный случай из большого числа реализуемых революций разных типов.
§ 2. «Цветные» революции как образец революций постмодерна
Не будем разбирать огромную по масштабам революцию в СССР в 1990—1991 гг., которая привела к ликвидации СССР и общественного строя и резко изменила систему мироустройства. Это особая большая тема. Сейчас для постсоветской России срочной стала задача понять тип производных из краха СССР революций, названных «бархатными» и «цветными».
Их предвестники – мятеж 1956 г. в Венгрии, «Пражская весна» 1968 г., «Красный май» 1968 г. в Париже. Позже – революция «Солидарности» в Польше, «бархатные» революции в Восточной Европе в 1989 г., а также ставшие их продолжением революции в Сербии (2000) и на постсоветском пространстве (Грузия, Украина, Киргизия). В 2011—2014 гг. это революции «арабской весны» и, наконец, начавшаяся в конце 2013 г. крупномасштабная революция на Украине. Все они произошли в обществах переходного типа и выпадают из модели Маркса. Их можно назвать революциями постмодерна.
Важно!
Эти революции не означали смены политических элит и правящих верхушек, а вели к глубоким изменениям в государстве и обществе. Все они были призваны решать задачи не столько формационного характера, сколько цивилизационного. Для понимания и предвидения хода таких революций надо анализировать процессы, происходящие в культуре, идеологии и сфере массового сознания.
Так, «Солидарность» представляла собой «ценностно-ориентированный монолит», а не коалицию групп, преследующих социальные цели. Фронт между противоборствующими силами пролегал не в социальной или классовой, а в ценностной плоскости.
Революции эпохи модерна вызревали и предъявляли свои цели и доктрину на основе рациональности Просвещения. Она задавала ту матрицу, на которой складывались понятия о мире и обществе, о правах и справедливости, о власти и способах ее свержения. Установки и вектор политики партий можно было соотнести с концепциями почти научного типа.
Постмодерн разрушил эти матрицы и произвел их деконструкцию. Проблема истины исчезла, исчезли и аксиомы справедливости, они не складываются в системы. Цели и аргументы могут полностью игнорировать причинно-следственные связи и даже быть абсурдными.
В 1980-е годы организация и технология таких революций стали объектом изучения и разработки в крупных государственных и полугосударственных учреждениях Запада. В 1983 г. в США был основан Институт Альберта Эйнштейна (ИАЭ). Его целями названы «исследования и образование с целью использования ненасильственной борьбы против диктатур, войны, геноцида и репрессий». Возглавляют его бывший полковник разведки Минобороны США Роберт Хелви и профессор Гарвардского университета Джин Шарп. Согласно отчету ИАЭ, с 2000 по 2004 г. за его услугами обращались группы из 34 стран, в том числе из Грузии, Украины, Белоруссии, Азербайджана.



