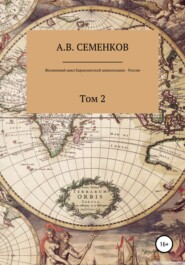 Полная версия
Полная версияЖизненный цикл Евроазиатской цивилизации – России. Том 2
Служение старцев основывалось на умном (духовном) делании – мистической концентрации внутренних духовных сил, «хранении ума» на созерцании Бога. Для этого используются смирение, молчание, молитва и трезвение. Постоянно повторяется Иисусова молитва: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя. Как писал иеромонах Иоанн (Кологривов), старцы приучили русский народ смотреть в небо поверх куполов дивных соборов, то есть, отрываясь от обрядности и формализма, жить внутренней жизнью, стремиться к Богу не только во внешнем поклонении Ему. Старцы старались научить смирению, прощению и управлению своей волей. Это были поистине учителя русского народа, а кельи их были своего рода университетскими кафедрами, на которых ищущие и просящие получали свое духовное образование. Влияние этих людей, живущих в стороне от обычного духовенства, в скитском уединении, было и остается огромным. Их духовное влияние значительно больше влияния простых монахов и священников. Через святых Сергия Радонежского и Кирилла Белозерского, Александра Свирского, Нила Сорского, Тихона Задонского и монахов Оптиной пустыни старчество распространилось по всей Руси. «Старчество являлось центром духовной жизни, народным источником, где каждый черпал живую воду благодати»33.
В.О. Ключевский отмечает, что осуществление идеи настоящего иночества надобно искать в пустынных монастырях. Именно эти монастыри, по мнению В.О. Ключевского, явились школой для воспитания подвижников веры: «Древнерусские жития изображают разнообразные и часто характерные условия прохождения пустынного подвижничества в Древней Руси, но самый путь, которым шли подвижники, был довольно однообразен. Будущий основатель пустынного монастыря готовился к своему делу продолжительным искусом обыкновенно в пустынном же монастыре под руководством опытного старца, часто самого основателя этого монастыря. Он проходил разные монастырские службы, начиная с самых черных работ, при строгом посте, «изнуряя плоть свою по вся дни, бодрствуя и молясь по вся нощи». Так усвоялось первое и основное качество инока – отречение от своей воли, послушание без рассуждения. Проходя эту школу физического труда и нравственного самоотвержения, подвижник, часто еще юный, вызывал среди братии удивленные толки, опасную для смирения "молву", а пустынная молва, по замечанию одного жития, ничем не отличается от мятежной городской славы. Искушаемому подвижнику приходилось бежать из воспитавшей его обители, искать безмолвия в настоящей глухой пустыне, и настоятель охотно благословлял его на это. Основатели пустынных монастырей даже поощряли своих учеников, в которых замечали духовную силу, по окончании искуса уходить в пустыню, чтобы основывать там новые монастыри». [Ключевский В.О.: Том 2, С. 348. История России, С. 21741].
80.2. Служение преподобного Сергия Радонежского
Во многом подъем духовной жизни, и, прежде всего, монашеской жизни связан с именем и деятельностью Сергия Радонежского (1314–1394), святой преподобный, преобразователь монашества на Руси, величайший русский подвижник. Во святом крещении получил имя Варфоломея.
Большинство из его современников, бывших с ним в духовном общении, испытали на себе его духовно-нравственное влияние. Его прямые ученики явились игуменами и строителями многочисленных монастырей: подмосковных, белозерских, вологодских. Именно он вдохновил на Куликовскую битву (1380) московского князя Дмитрия. Благодаря ему все князья соединились перед Куликовской битвой, признав главенство Дмитрия Донского. Св. Сергий благословил Дмитрия перед битвой, предсказал ему победу и дал двух иноков – Пересвета и Ослябю.
В 23 года Варфоломей принял постриг в иноческий чин с наречением имени Сергия. Более года Сергий провел в полном одиночестве, преодолевая непрестанною молитвою и трудами искушения помыслами и страхи от диких зверей. Слух о его подвижнической жизни разошелся по окрестностям, и около него начали селиться любители уединения. Постепенно создался поселок, первоначально принявший вид киновии, где каждый отшельник жил в своей собственной келье, собираясь вместе только к богослужению. Затем киновия начала преобразовываться в общежительный монастырь, возрастая и числом насельников, и духовными силами. В ее святом руководителе чудесно сочетались три основные способности человеческой природы: молитвенно-созерцательное устремление в область духа, неустанный труд и горячая деятельная любовь не только к людям, но и ко всему живому.
Св. Сергий основал, кроме Свято-Троицкого Сергиева монастыря, еще несколько обителей. Св. Сергий и его ученики в течение нескольких десятилетий на рубеже XIV–XV веков основали более 40 монастырей на Севере Руси. Все эти деяния выходили далеко за пределы собственно церковной жизни, поскольку Северная Фиваида, как называют историки монастырскую колонизацию русского Севера, фактически дала этим глухим лесным пространствам импульс хозяйственного, культурного развития. Главной своей целью Сергий и его ученики считали духовное воспитание.
Став по воле Божией игуменом монастыря, Сергий, «наставляя братию, немногие речи говорил. Но гораздо больше пример подавал братии своими делами». Обретая силы в безграничном источнике любви – в живоначальной Троице, Сергий вносил мир и согласие не только в жизнь, в души монашеской братии, но и в мирское общество. Сергий Радонежский является вторым родоначальником русского монашества. Св. Сергий выступает продолжателем дела своего духовного предка – образ Феодосия Печерского явно выступает в нем, лишь еще более утончившийся и одухотворенный. О Феодосии напоминают и разнообразные труды преп. Сергия, и сама его телесная сила и крепость, и худые ризы, которые, как у киевского игумена, вводят в искушение неразумных и дают святому показать свою кротость. Роднит обоих русских святых гармония их деятельной и созерцательной жизни. Преп. Сергий покоил нищих и странных в своей еще убогой обители, и на смертном одре завещал своим ученикам не забывать страннолюбия. Как и Феодосий, он был близок к княжескому дворцу, принимал участие в политической жизни Руси и благословил Дмитрия Донского на освободительный подвиг. Преп. Сергий – ученик Феодосия, быть может, превзошедший своего далекого учителя.
При ближайшем рассмотрении, мы видим и новые черты, присущие именно преп. Сергию. Смирение его главная человеческая добродетель. Свою кротость и смирение Сергий простер так далеко, что является перед нами совершенно безвластным и всегда готовым на унижение. Игумен нанимается плотником к монаху Даниле за решето гнилых хлебов. Мы никогда не видим его наказывающим ослушников, как это случалось делать кроткому Феодосию. На ропот недовольных Сергий отвечает лишь увещаниями и даже, избегая борьбы, на время удаляется из монастыря.
В служении преп. Сергия мы видим и нечто новое, таинственное, еще невиданное на Руси. Преп. Сергий первый русский пустынножитель, был и первым русским мистиком, т.е. носителем особой, таинственной духовной жизни, не исчерпывающейся аскезой, подвигом любви и неотступностью молитвы. Для него, как и для древних мистиков Востока, пустыня была учительницей богомыслия. Медведь был первым его другом в безлюдной глуши. С грустью говорит его ученик о постройке будущей лавры: «исказили пустыню». С грустью принял преподобный первых своих учеников: «Аз бо, господие и братия, хотел еcмь один жить в пустыне сей и тако скончатися на месте сем». Но он не противится воле Божией, ради любви к людям утеснял созерцание. Известны мистические видения преп. Сергия: сослужащего ему ангела, огонь, сходящий со сводов храма в потир перед его причащением, явление Пречистой с апостолами Петром и Иоанном. Русская агиография до св. Сергия не знает подобных таинственных видений. Они говорят о таинственной духовной жизни, протекающей скрытно от нас.
Мистическая жизнь преп. Сергия проходила под покровительством Пресвятой Троицы, которой он был посвящен до рождения, которой посвятил и свою обитель. Сергий Булгаков указывал на связь духовной жизни преп. с современным ему мистическим движением на православном Востоке. Это известное движение исихастов, практиков «умного делания» или умной молитвы, идущее от св. Григория Синаита с середины XIV столетия. Новую мистическую школу Синаит принес с Крита на Афон, и отсюда она широко распространилась по греческому и югославянскому миру. Св. Григорий Палама, Тырновский патриарх Евфимий, ряд патриархов Константинопольских были ее приверженцами. Богословски эта мистическая практика связывалась с учением о Фаворском свете и божественных энергиях.
Св. Сергий ничего не поведал ученикам о своем духовном опыте, да, может быть, ученики эти (Епифаний, хотя и премудрый) были бессильны выразить в слове содержание этого внутреннего тайнозрения. Духовная школа преп. Сергия для нас загадочна. Мы не знаем других учителей его, кроме таинственного старца, благословившего отрока Варфоломея, и старшего брата Стефана, под началом которого Сергий начал подвизаться, но который оказался не в силах вынести лесного пустынножительства. Пути духовных влияний таинственны и не исчерпываются прямым учительством и подражанием. Мистическую традицию, которая утверждается среди учеников преп. Сергия, его собственный мистический опыт, светоносные видения Сергия можно сопоставить с фаворским светом исихастов.
Смирение, кротость, трудолюбие сочетались у преп. Сергия с великой духовной мудростью и глубиною мистического богообщения. Ученики преподобного – Симон, Исаакий и Михей – были свидетелями его мистического общения с высшими духовными силами. Св. Сергий скончался 25 сент. 1392 года. Через 30 лет были обретены нетленными его мощи и одежды, и в 1452 году он был причислен к лику святых. Еще при жизни преп. Сергия называли «игуменом всея Руси». В «Патерике» Троице-Сергиевой лавры названо около 100 имен святых подвижников, так или иначе связанных духовными узами с великим «игуменом всея Руси», прямых продолжателей его дела.
80.3. Ученики и последователи преподобного Сергия Радонежского
XIV–XVI столетия считаются золотым веком русской святости, давшим более всего преподобных Русской Церкви. В те времена северная – тогда воистину святая Русь, – вся покрылась монастырями. Духовная генеалогия русских подвижников XIV–XVI веков почти неизбежно приводит к преп. Сергию, как к общему отцу и наставнику после Феодосия Печерского. Все новое русское сергиевское монашество уходило в пустыню, в лесные дебри, бежало от нагонявшего мира, не уступало ему, оседало в хозяйственных обителях, строилось, создавало иногда крупные культурные очаги, опорные пункты русской колонизации. Все это новое аскетическое движение освящается именем св. Сергия.
В послесергиевском монашестве можно различать два течения, прежде всего географически: северное и московское. Уже сам преподобный Сергий, уступая князьям и митрополиту, отдавал своих учеников, Феодора, Афанасия, Андроника в строители и игумены московских и подмосковных монастырей. Другие ученики его, Кирилл Белозерский, Павел Обнорский шли на север, за Волгу, не в города, а в лесную пустыню.
За географическим разделением русского подвижничества скрывается более существенное духовное разделение – складываются разные направления аскезы. Созерцательная духовная жизнь была главной целью северных отшельников. Белозерский край, Кубенское озеро, южная окраина Вологодских лесов: Комельская, Обнорская, Нуромская пустыни, а за ними далекое поморье – вот главные очаги «заволжских старцев».
Учеником и последователем Сергия Радонежского был Кирилл Белозерский (Косьма) (1337–1427), основатель и первый игумен Кирилло-Белозерского монастыря под Вологдой, автор посланий, православный святой. Родился в Москве, в знатной семье.
В возрасте 30 лет Косьма принял пострижение в московском Симоновом монастыре под именем Кирилла. В иноки его посвятил игумен Федор, племянник Сергия Радонежского. В обители Кирилл провел несколько лет в хлебне, поварне и прочих службах, находясь под руководством старца Михаила, впоследствии смоленского епископа. Посещавший монастырь Сергий Радонежский часто беседовал с Кириллом с глазу на глаз. Возведенный в сан иеромонаха, он по удалении Симоновского архимандрита Феодора на ростовскую архиепископию, был избран на его место, но в сане игумена Кирилл оставался недолго.
Недовольный нарушением старых строгих порядков монастырской жизни Кирилл уступил свое место другому (Сергию Азакову). Несколько позже преследования со стороны нового игумена принудили его удалиться из Симонова в старый монастырь Рождества Пречистой (иначе в «Старое Симоново», недалеко от нового Симонового монастыря), где у него и явилась мысль «далече от мира уединиться».
Житие преп. Кирилла, составленно в конце XV века Пахомием Логофетом (в рукописи). Согласно Житию, однажды во время ночной молитвы он услышал голос: «Кирилл, уйди отсюда. Иди на Белое озеро и найдешь там покой, там тебе уготовано место, в котором спасешься». Взглянув в оконце кельи, Кирилл увидел белый свет и некую местность, находящуюся далеко на севере. Вскоре видение исчезло.
От своего сподвижника по монастырю инока Ферапонта (впоследствии основателя белозерского Ферапонтова монастыря), Кирилл узнал, что на Белоозере есть места, удобные «для безмолвия». Вместе они покинули обитель, и ушли в Белозерскую страну. Кирилл и Ферапонт обошли несколько мест, пока Кирилл не узнал то, которое было указано в чудесном видении. Кирилл на берегу Сиверского озера, верстах в 7 от Шексны, положил начало общежительному монастырю во имя Успения Богородицы. Первоначально на склоне холма он водрузил деревянный крест, устроил вместе с преп. Ферапонтом самый простой шалаш, а затем выкопал в земле келью. Вскоре Кирилл на том месте соорудил небольшую избушку, сохранившуюся до наших дней; она служила ему, вероятно, кельей, хотя обыкновенно ее называют часовнею. Вокруг кельи Кирилла собралась братия. Совместными усилиями они построили деревянную церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы, кельи, трапезу и другие служебные постройки. Так на берегу Сиверского озера возник Успенский Кирилло-Белозерский, или просто Кириллов монастырь, игуменом которого преп. Кирилл состоял около 30 лет до самой своей кончины.
Преп. Ферапонт через некоторое время оставил это место, и впоследствии в 15 верстах основал особый монастырь, позднее известный как Ферапонтов.
Кирилл ввел в монастыре самый строгий общежительский устав. Сам игумен исполнял его строже всякого простого инока. В основу организации внутренней жизни своего монастыря преп. Кирилл положил обычаи Симоновские: строгое общежитие, личную нестяжательность и вотчинный строй с ограничениями в духе требований митр. Киприана. Богослужебные и келейные порядки с самого начала монастыря были, по-видимому, иерусалимские. Все имущество было общее. Без разрешения игумена никто не выходил из пределов монастыря. Все, приносимое братии, подарки или даже письма, непременно вносилось с ведома игумена; через его же руки проходило все, что посылали кому-либо на сторону иноки.
Устав Белозерских монастырей Кирилла и Ферапонта, как он изложен в житии последнего, изображает распорядок монастырских занятий, «чин всякого рукоделия»: кто книги пишет, кто книгам учится, кто рыболовные сети плетет, кто кельи строит; одни дрова и воду носили в хлебню и поварню, где другие готовили хлеб и варево; хотя и много было служб в монастыре, вся братия сама их исправляла, отнюдь не допуская до того мирян, монастырских служек.
Уже при жизни преп. Кирилла монастырь достиг значительной степени благосостояния. Этому отчасти содействовало личное расположение к преп. Кириллу князей – его духовного сына князя белозерского и можайского Андрея Дмитриевича, его семьи, великого князя московского, князя галицко-звенигородского и общественное уважение к его подвижничеству. Преп. Кирилл поставил дело так, что его обитель стала своего рода культурным центром. Он был известен как книголюбец еще в Симоновом монастыре. При Белозерском монастыре проживал дьяк, обязанностью которого было писать книги и учить детей «грамотной хитрости». Многие из грамотных иноков трудились над перепискою книг и составлением сборников, из числа коих некоторые доселе сохраняются в Кирилловом монастыре. Предание указывает между ними и рукописи, писанные рукою самого Кирилла. До нашего времени дошли 12 книг из личной библиотеки преп. Кирилла. Сам он был автором трех посланий, свидетельствующих о его начитанности, хотя и изложенных в простонародно-безыскусственной форме.
Кирилл еще при жизни прославился многими чудесами. Совершались они и после смерти Кирилла. В XV–XVI веках Кириллов монастырь пользовался особым уважением в России, и особенно у царского семейства.
Преп. Кирилл погребен в Кириллове монастыре. Мощи преподобного почивают под спудом в храме созданного им монастыря. Над его мощами ныне находится церковь во имя преп. Кирилла, построенная в 1585–1587 годы и заново перестроенная в XVIII веке.
Преподобный Александр Свирский (Амос), (1448–1533), родился в Новгородской земле, в деревне Мандера, в семье небогатых благочестивых крестьян. Родители воспитали своих детей в христианском духе.
В возрасте 26 лет Амос пришел на Валаам, игумен принял его и постриг с наречением ему имени Александр. Подвизался Александр, изумляя суровостью своего жития самых строгих Валаамских иноков. Сначала он подвизался в общежитии, потом перешел на безмолвие, на остров, именуемый ныне Святым, и провел там 13 лет. Там доселе сохраняются следы его труженической жизни: его узкая сырая пещера, в которой можно поместиться только одному человеку; расположена она в расселине скалы на половине обрывистой горы, туда проведена отвесная лестница. Сохранена и выкопанная им для себя могила, впоследствии осененная гранитным крестом.
Однажды, стоя ночью на молитве, Александр услышал таинственный голос: «Александр, изыди отсюда и иди на прежде показанное тебе место, на нем ты возможешь спастись». Великий свет указал ему место на юго-востоке, на берегу р. Свири, где стоит до наших дней его монастырь.
Александр пришел на озеро Рощинское и поселился в пустыне, в 6-ти верстах от реки Свири. В глубине непроходимого бора он поставил небольшую хижину и предался уединенным подвигам.
Слезными ночными молитвами побеждал Александр в себе раздражение и досаду и стяжал, наконец, всепобеждающую любовь к ближнему и великий мир в душе. К Александру начали собираться жаждущие обитать под сенью его молитвы. Пришел и Завалишин со своими чадами и принес пустынникам много хлеба. Александр принял жертву, но посоветовал братии не оставаться праздными, а очищать лес и возделывать землю, чтобы питаться трудами рук своих и снабжать убогих.
Прожив 25 лет в Свирской пустыни, Александр был утешен божественным явлением такой силы, что нельзя было сравнить его ни с какими другими восхищениями его духа: для него повторилось видение, бывшее некогда Аврааму: светлые ангелы с посохами в руках изображали собой Святую Троицу. Божественным знаком особого значения православного русского народа во вселенской истории стало в конце XIV века явление Святой Троицы великому русскому святому Александру Свирскому. Это откровение несло таинственный смысл и знак любви Божией к русскому народу. В лице св. Александра Свирского – русского новозаветного Авраама – сама Святая Троица избирает русский народ народом-богоносцем, исповедником истинной веры Христовой в конце мировой истории.
Скончался преподобный Александр со словами: «Господи, приими дух мой» 30 августа 1533 году, будучи 85 лет от роду. В 1547 году был причислен к лику святых. Св. мощи его были открыты в 1641 и почивали в открытой раке в Преображенской пустыни, откуда в день Пресвятой Троицы переносились в Свято-Троицкий монастырь и оттуда обратно. Мощи преподобного Александра пребывают нетленными и до наших дней в Александро-Свирском монастыре.
Савватий, Зосима и Герман – преподобные Соловецкие святые. Именно эти отцы были первыми жителями необитаемого Соловецкого острова. Благодаря их трудам и молитвам на необжитом Соловецком острове появились келии, церковь, а потом Соловецкий монастырь, ставший настоящей жемчужиной духовной жизни русского Севера. Преподобный Савватий, Соловецкий чудотворец, и угодник Божий – преподобный Зосима, считаются основателями величайшей святыни Архангельской земли – Спасо-Преображенской Соловецкой обители.
Основным источником сведений о Савватии и Зосиме служат их Жития, представляющие единое произведение, части которого связаны единством замысла и повествования, общими рассказами о чудесах. Жития Савватия и Зосимы были созданы Соловецким игуменом Досифеем и бывшим Киевским митрополитом Спиридоном по благословению Новгородского архиепископа св. Геннадия (Гонзова), История создания произведений изложена Спиридоном в кратком послесловии к Житиям и Досифеем – в «Слове о сътворении Жития начальников соловеческых», вошедшем в Жития Савватия и Зосимы.
Согласно житию, Савватий, во времена митрополита Фотия, подвизался в Кирилло-Белозерском монастыре. Узнав, что в «Ноугородцкой области» есть Валаамский монастырь, где иноки ведут жизнь более строгую, Савватий перебрался туда. Удивляя братию своим терпением и мирением, он искал место для совершенного уединения и безмолвной молитвы. Но и там его сердце и душа не обрели покоя. Однажды от странствующих монахов и рыбаков Савватий он узнал о том, что на севере в двух днях плавания от берега в Белом море стоит большой остров, никем не населённый, и ушёл из Валаамского монастыря.
Сначала он поселился у часовни на Выге-реке, где встретил инока Германа «родом карельских людей», одиноко жившего в лесу. Савватий, умудренный инок из Валаамской обители, был уже стар. Герман – ученик преподобного Савватия – был родом из города Тотьма. Он отличался богатырской силой, и добрым нравом. Ранее Герман уже посещал Соловки вместе с рыбаками, и согласился сопровождать Савватия на остров и остаться с ним там.
Совершив «путноешествие» по морю, оба монаха в 1429 году благополучно прибыли на карбасе на остров. Там они водрузили крест и поставили шатер. Затем выбрали для кельи удобное место на берегу озера у высокой Секирной горы. Неутомимый Герман рубил келейку, а пока работал, преподобный Савватий неустанно читал ему вслух Псалтырь. Преподобные Савватий и Герман вместе прожили на острове несколько лет. Они предавались подвигам пустынничества. Молились, читали богословские книги, дни и месяцы проводили в безмолвии. Опытный Савватий учил науке монашества некнижного Германа, который не умел читать.
После нескольких лет совместной жизни на острове, «во всяцех трудих и злостраданиих мнозех», Герман покинул обитель. Он отправился «на Онегу-реку некыя ради потребы», надеясь к осени возвратиться обратно. Однако из-за плохой погоды он вынужден был вернуться на Онегу «озимети», а в следующее лето «хотяше ити в путь», но не смог из-за болезни.
Савватий остался в полном одиночестве. Сначала он печалился об уходе сподвижника, но затем стал подвизаться еще ревностнее. «Углубляясь умом в постоянную молитвенную беседу с Богом и к Нему обращая полные слез очи, преподобный воздыхал день и ночь, желая отрешиться от тела и соединиться с Господом. Один только Господь знал, каково было его пребывание на острове, каков пост, каковы духовные подвиги!».
Преподобный Савватий во время молитвы получил весть от Бога о близости своей кончины. Умирать он не боялся, поскольку имел горячее «желание разрешиться и быть со Христом», однако ему хотелось приготовиться к смерти по-христиански – исповедавшись и причастившись Святых Христовых Таин. Помолившись Богу, он покинул Соловецкий остров и в небольшой лодке пустился в плавание по морю. С Божией помощью он «преплу пучину морскую» и оказался на Выге-реке, там в это время находился игумен Нафанаил. Преподобный Савватий причастился у игумена Нафанаила и отошел в вечность. Это случилось 27 сентября 1435 года. И был похоронен игуменом Нафанаилом.
Герман остался в одиночестве. Только через год к нему присоединился новый монах – Зосима. Этот инок был молод. Он был сыном богатых и благочестивых родителей, выходцев из Великого Новгорода. С юных лет воспитывался в благочестии, и после смерти родителей, раздав имущество, принял постриг. В поисках уединенного места Зосима отправился на побережье Белого моря. Там, в устье реки Сумы он и повстречался с отшельником Германом, который поведал ему о пустынном морском острове. Зосима, услышав рассказы о мире, покое и тишине, об озерах, наполненных рыбой, пожелал отправиться в те далекие места. С Германом они договорились о совместном «путном шествии» на Соловки.
Достигнув острова, Зосима стал искать место, подходящее для строительства монастыря. После ночного моления, выйдя из шатра, Зосима увидел «луч пресветлый» и «к востоку церковь превелику зело пречюдну, простерту на воздусе стоящу». Зосима подробно рассказал Герману о том, что видел он «неизреченный свет и церковь прекрасну». Герман это видение истолковал так, что именно Зосиму «благослови Бог на место сие». После случившегося видения они приступили к строительству келий и земледельческому труду. Так был заложен Соловецкий монастырь, постепенно пополнявшийся приходящими с берега иноками.



