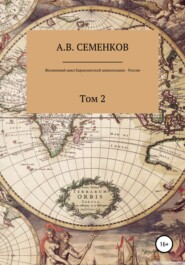 Полная версия
Полная версияЖизненный цикл Евроазиатской цивилизации – России. Том 2
В этот период существовал и еще один тип иконописи – он отражал вкусы народной среды: крестьян и широких масс городского посада. В простейших, почти схематичных композициях этого типа изображаются подвиги и чудеса святых, сцены евангельской истории. Эти иконы игнорируют нюансы эмоций, глубину молитвенных переживаний. Они напоминают о стойкости духа, о величии событий, вселяют надежду на помощь и заступничество святых. Такова, например, икона с изображением победы св. Георгия над драконом со сценами его жития.
Иконопись XV века сочетает уже сложившуюся к этому времени русскую художественную традицию с мотивами и идеями широкого православного мира, а также отражает ситуацию русской духовной жизни того времени. Иконопись этого периода достигла непревзойденного совершенства художественной формы. Русская иконопись этого периода выделяется своей монументальностью, внутренней силой и драматической выразительностью образов, смелой и свободной живописной манерой. Наиболее значительными представителями русской иконописной школы XV века являются Андрей Рублев и Дионисий.
С творчеством Андрея Рублева в иконопись вошли глубокая гуманность, возвышенная одухотворенность и идеальная просветленность образов, идеи согласия и гармонии. Ему принадлежат такие известные иконы, как «Троица Ветхозаветная», «Архангел Михаил», «Апостол Павел», фреска «Святой Лавр» в Успенском соборе Звенигорода. Дионисий увлекался скорее внешней стороной в ущерб психологической разработке образа человека. К числу его созданий отнесем икону «Богоматерь Одигитрия», а также фреску собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря «Поклонение волхвов».
После работы в 1408 году во Владимире Андрей Рублев занимает ведущее положение среди московских мастеров и ему поручают написать «Троицу Ветхозаветную». Это – икона, которую с наибольшей достоверностью можно считать написанной Андреем Рублевым. Об этом говорит Житие игумена преп. Никона Радонежского, а в XVI веке – постановление церковного собора, предписывавшего всем иконописцам изображать Святую Троицу так, как это сделал Андрей Рублев.
Икона «Троица», создана Андреем Рублевым в начале XV века для Троицкого собора в Троицко-Сергиевом монастыре. Изображенные на иконе в виде ангелов трое странников, присевших за трапезой, по мысли художника, воплощают в себе святую Троицу – справа изображен Святой Дух, слева Бог Отец, а в центре Бог Сын – Иисус Христос, который будет послан в мир людской для того, чтобы своими страданиями направить человеческий род на путь спасения. Все три фигуры и по облику своему, и по движению составляют единое целое. В то же время у каждого своя мысль, своя задача, своя судьба. Икона пронизана идеей жертвенности ради людей, идеей высокого гуманизма. Рублев сумел силой своей кисти, рядом условных знаков создать целую религиозную поэму. Каждый русский человек, смотрящий на икону, размышляет не только о религиозном сюжете, отраженном в иконе, но и о своей личной судьбе, вплетенной в судьбу многострадального Отечества.
Ветхозаветная сцена посещения дома Авраама тремя вестниками – ангелами изображена русским художником в символическом ключе, без нарративных подробностей, без фигур Авраама и Сарры. Он изобразил трех ангелов как символ единосущия и равночестия трех лиц Пресвятой Троицы, согласно православному Символу веры. Впечатление единства трех ангелов достигается и общностью их душевного состояния, их тихой и светлой скорби, и особенностями композиции. Фигуры словно вписаны в мысленный круг, внутри которого, согласно направлению склоненных голов, совершается медленное движение, замкнутое, повторяющееся, бесконечное. При всей схожести ангелов, среди них слегка выделен центральный, в одежде которого (пурпурный хитон и синий гиматий, золотой клав на плече), в жесте руки, расположенной ближе других к чаше, которая есть чаша жертвенная, евхаристическая, присутствует указание на Бога Сына – второе лицо Троицы. Соответственно, левая фигура символически указывала на Бога Отца, а правая – на Святого Духа.
Приблизительно в середине XV века в иконописи Московского царства наступает перелом. Фигуры изображенных на иконах становятся совсем тонкими, бесплотными, их строение утрачивает связь с эллинистическим каноном, контуры – выразительные, но стилизованные, композиции условные, в них подчеркнут абстрактный ритм силуэтов и гармонически согласованных цветовых пятен, передающий идеальную красоту небесного мира. После трагического для Византии 1453 года русская иконопись словно подхватывает выпавшее из ее рук знамя православного искусства, но выбирает свой собственный путь, окончательно стилизуя и абстрагируя византийскую традицию. Русская иконопись XV века сохраняет не букву, но дух византинизма, ее образы по-прежнему идеальные, вневременные, это образы созерцания и молитвы.
Выдающийся московский художник второй половины XV века – Дионисий – первые упоминания о его работах приходятся на 1460-е годы, умер до 1508 года. Его деятельность совпадает по времени с правлением московского великого князя Ивана III (1462–1505). Именно Дионисий придал законченность новому стилю московской живописи, и во фресках – наиболее известна роспись Ферапонтова монастыря 1502–1503 года, и в многочисленных иконах. Фигуры в иконах Дионисия – тонкие и слегка изгибающиеся, как стебли изысканных экзотических растений. Лики – с мелкими чертами, с небольшими полузакрытыми глазами. Персонажи на его иконах и фресках словно прислушиваются к некоему внутреннему голосу или к небесной музыке. Композиции объединяются не реальными соотношениями форм, а ритмом силуэтов и утонченных сочетаний светлых, прозрачных красок – икона «Успение».
Произведения Дионисия не содержат в себе драматических мотивов. Даже «Распятие» своими сияющими красками и красотой контуров утверждает победу жизни над смертью, а не показывает трагедию. Для многофигурных композиций самого Дионисия и близких к нему мастеров свойственна передача не действия, а раздумья, иногда тихой беседы. Икона из маленькой деревянной церкви, выстроенной неподалеку от Ферапонтова монастыря в 1485 году, в селе Бородава, изображает перенесение реликвий Богородицы, ее мафория и пояса императором, императрицей, патриархом и их приближенными в одну из церквей Константинополя – Влахернскую. Представлена, однако, не столько церемония «положения» святынь, как сообщает надпись на иконе «Положение честной ризы и пояса Пречистой Богородицы во Влахерне», сколько молитва, поклонение святыням.
В новгородских иконах на протяжении почти всего XIV века присутствует влияние фресковой живописи. На большой территории Новгородской республики и самого города развиваются разные направления в иконописи – от архаизирующего, в котором сильно влияние народного мироощущения, фольклорная основа, до грекофильского, отражающего черты византийского искусства «Палеологовского ренессанса». Среди этих разнообразных стилей складывается своеобразная новгородская школа иконописи. Для нее характерно лаконичность и простота композиционного решения, точность рисунка крепких коренастых фигур, изображенных на плоскости. Ее отличает чистая, звонкая красочная палитра яркая киноварь, беспримесный синий и желтый цвета. Новгородцам свойственна ясность толкований сюжетов трезвость мироощущения. Так пишут новгородцы своих «избранных святых» – по нескольку фигур сразу строго в фас, чаще всего в рост, но всегда с сурово-неумолимым выражением лиц.
Новгородская школа – самая значительная в русской иконописи XV века после московской. Новгородская иконопись отразила особенности мировоззрения широких масс городского и крестьянского населения. Отсюда конкретность ее иконографии, понятное и обстоятельное изображение тех или иных священных событий и чудес. Отсюда фронтально изображенные фигуры, как бы напрямую, непосредственно обращающиеся к молящимся. Отсюда простота всех контуров, геральдическая четкость композиций и повышенная яркость цвета, напоминающая о народной любви к яркой орнаментации. Новгородская иконопись создает образ торжества христианской веры, через изображение триумфа служивших ей святых.
Если в XV веке уже достаточно заметно расхождение в эволюции двух художественных миров, западноевропейского и «византийского», то в XVI веке это расхождение превращается в огромный разрыв, причем не только конфессиональный, но и художественный. Приверженность традиции обусловила консервативность православной иконы, она стала хранительницей культурного наследия, залогом преемственности развития национальной культуры.
ОТДЕЛ 21. Мировоззрение русского народа в эпоху Московского царства. Пути духовно-нравственного служения. Мировоззренческий выбор
ГЛАВА 79. Путь служения воина-защитника веры и отечества. Путь воина-освободителя
79.1. Народные сказания, исторические песни и воинские повести об освободительной борьбе русского народа
В XIV–XV веках окончательно сложился и оформился новый жанр исторической песни, главной темой которого стала борьба русского народа с иноземными захватчиками. В фольклоре ярко звучит тема народной трагедии в связи с татаро-монгольским нашествием, любви к своей многострадальной земле, а позднее – мотивы борьбы за освобождение Родины от ордынского ига и гордость за героев этой борьбы. Известны такие исторические песни – «Князь Роман и Мария Юрьевна», «Авдотья Рязаночка», «Девушка спасается от татар», «Мать встречает дочь из татарского плена», «Песнь о Щелкане Дудентьевиче» и многочисленные песни о «девушках полонянках». Куликовская битва вдохновила русский народ на создание многих сказаний и исторических песен. В одной из самых известных исторических песен той поры говорилось о богатыре Сухмане, побившем врагов на берегу реки Непрядвы, где состоялась Куликовская битва.
Особенно популярными в это время становятся сказания – это истории, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Центральной темой многих литературных произведений той поры, созданных в жанре воинской повести, стали события, связанные с татаро-монгольским нашествием и героической борьбой русского народа с иноземными захватчиками.
Вокруг исторических событий той поры сложились целые циклы устных народно поэтических произведений. Самым ранним и значительным произведением этого жанра стало «Сказание о разорении Рязани Батыем», в рамках которого обычно выделяют два самостоятельных рассказа: «О любви и смерти рязанского князя Федора Юрьевича, его жены Евпраксии и их сына Ивана Постника» и «Сказание о рязанском богатыре Евпатии Коловрате».
В числе литературных памятников рассматриваемого периода можно назвать следующие: «Слово о Меркурии Смоленском», «Слово о погибели земли Русской», «Поучения» владимирского епископа Серапиона и «Повести» о новгородском князе Александре Невском и псковском князе Довмонте. В конце XIII – начале XIV века появляются новые литературные памятники этого жанра, в частности, знаменитые сочинения тверских авторов «Повесть об убиении князя Михаила Ярославича в Орде» и «Повесть о Шевкале», которая представляла собой переработку устного народного сказания о Щелкане Дудентьевиче.
Народно-поэтическая основа отчетливо видна и в одном из самых знаменитых произведений куликовского цикла «Сказании о Мамаевом побоище», где речь идет о поединке троицкого черноризца Александра Пересвета с ордынским багатуром Челубеем. «Сказание о Мамаевом побоище» – самое объемное и популярное произведение Куликовского цикла. Это и самое «синтетическое» произведение этого цикла. В этом произведении, с одной стороны, куликовская победа представлена как награда за христианские добродетели, а с другой стороны, здесь нашел отражение вполне реальный взгляд на вещи и реальная оценка многих исторических событий и персонажей той поры. Кроме того, в этом «Сказании», где были широко использованы устные народные предания о Куликовской битве и содержатся разнообразные элементы устного народного творчества, находит свое целостное выражение идея тесного союза Русской Православной Церкви и сильной княжеской власти.
К произведениям Куликовского цикла вплотную примыкает и повесть «О Московском взятии от царя Тохтамыша и о пленении земли Русской». Это сказание отразило печальное событие 1382 года, которое буквально потрясло Русь после блестящей победы на Куликовом поле.
В этот период создается и особый цикл былин, исторических песен и устных исторических повестей. В каждом княжестве народ вспоминал и славил своих героев. В Новгороде – великого силача Василия Буслаева и торгового гостя Садко: «Василий Буслаев и новгородцы», «Поездка Василия Буслаева», «Смерть Василия Буслаева», «Садко гусляр», «Садко торговый гость» и другие. Исторические песни рассказывают о борьбе Руси против Орды, например о знаменитом восстании в Твери 1327 года.
Именно в этот период на Руси появились циклы былин о Владимире Красное солнышко и об Илье Муромце и Соловье Разбойнике. В этих творениях народа отражаются как ранние периоды воинской героики, так и поздние боевые свершения: здесь и сечи с половцами, и битва на Калке, и Куликовская битва, и освобождение от ордынского ига. Историко-литературные произведения отражали всю сложность и трагичность борьбы Руси за единство, против ордынского ига.
79.2. Житийная литература о служении русских князей
«Житие святого Александра Невского», создано в 1280-х годах и дошло до нас в тринадцати редакциях – Первоначальной, Лихачевской, Особой и других. По мнению большинства авторов (Н. Костомаров, В. Пашуто), первая редакция этого «Жития», вероятнее всего, была создана во Владимире при монастыре Рождества Богородицы, где в 1263 году было погребено тело великого русского князя. Вопрос об авторстве этого произведения также до сих пор является предметом научных споров. Одни ученые (В. Кусков) говорят, что авторами «Жития» были старший сын Александра Невского великий владимирский князь Дмитрий Александрович и митрополит Кирилл. А их оппоненты (Д. Лихачев) полагают, что автором этого произведения был анонимный выходец из Галицко-Волынской Руси, который в 1250-х годах прибыл во Владимир в свите митрополита Кирилла.
Правление Александра Ярославича Невского стало неотъемлемой частью исторической памяти русского народа. Почти четверть века, в самый трудный период русской истории, мечом и искусной дипломатией он защищал Святую Русь от смертельных угроз и с Запада, и с Востока. Он не знал крупных поражений ни на поле брани, ни на дипломатическом поприще. Его духовно-нравственный подвиг определяется не только достигнутыми им результатами, но и теми тяжелейшими препятствиями, которые ему пришлось преодолеть. Поэтому неслучайно безымянный автор его «Жития» был искренен в своем плаче: «О, горе тобе, бедный человече! Како можеши написати кончину господина своего! Како не упадета ти зеници вкупе со слезами! Како не урвется сердце твое от горкыя тугы! Чада моя, разумеите, яко уже заиде солнце земли Суздальской!».
Деятельность князя Александра шла по двум направлениям. С одной стороны, он занимается мирным строительством и упорядочением Земли Русской, он укреплял Русь, накапливал силы для будущей открытой борьбы. В этом заключается смысл его долголетних, упорных трудов по управлению Новгородом и Суздальской Русью. С другой стороны, подчинением ханам и исполнением их повелений он предотвращал татарские погромы, внешне ограждал созидательную работу на Руси.
Ордынские нашествия были величайшим злом, грозившим полной гибелью. Русь десятилетиями оправлялась от Батыева разгрома. При нашествии татары стремились до основания разрушить страну. Новое нашествие на Русь, подобное Батыеву, могло окончательно подорвать ее, уничтожить и ту внутреннюю силу, которая теплилась и начинала возрождаться. Поэтому политика св. Александра Невского сводилась к предотвращению нашествий. Он шел на все уступки, лишь бы только предотвратить ханский гнев на Русь. Для этого он добивался полным повиновением доверия ханов, пытался, как можно больше отдалить Русь от ханов и стать посредником между ними. Для этого он должен был становиться как бы наместником хана, от которого он получал саму власть, и возможность предотвращать всякую попытку мятежа.
Перед св. Александром стояла трудная задача сдерживания возмущенного и озлобленного народа. Одно возмущение могло разрушить плоды многих лет его трудов. Поэтому он подчас силой и принуждением заставлял народ смиряться под татарским ярмом, постоянно сознавая, что народ может выйти из-под его власти и навлечь на себя ханский гнев. Александр Невский попытался образумить строптивых земляков, но новгородцы взбунтовались, и в городе вспыхнуло новое восстание, в ходе которого был убит новгородский посадник Михалко Степанич. Великий князь, опасаясь нового нашествия татар, вынужден был жестоко подавить восстание новгородских смердов, казнить советников юного княжича, а самого его под крепким караулом отправить в Суздаль. В 1259 году численники вновь вернулись во Владимир, а затем в сопровождении великого князя направились в Новгород, где «изочтоша всю землю Новогородскую и Псковскую, точию не чтоша священического причета».
Русский князь становился как бы на сторону хана. Он делался подручником ханских баскаков против русского народа. Св. Александру приходилось осуществлять ханские приказы, которые он осуждал как пагубные. Но для сохранения общей главной линии спасения Руси он принимал и эти приказы. Только с этой точки зрения понятно все дело жизни св. Александра Невского. Эта трагичность положения между Ордой и Русью делает из св. Александра мученика. С мученическим венцом он входит и в русскую Церковь, и в русскую историю, и в сознание народа.
79.3. Русские летописи о борьбе Руси с иноземными захватчиками
В 1262 году по городам Ростовской Земли прокатилась волна восстаний против Орды. Созданный после этих событий летописный свод, определяемый Д.С. Лихачевым как летописный свод Марьи, «весь проникнут идеей необходимости крепко стоять за веру и независимость родины. Именно эта идея определила собой и содержание, и форму летописи. Летопись Марьи соединяет в своем составе ряд рассказов о мученической кончине русских князей, отказавшихся от всяких компромиссов со своими завоевателями»31.
К повествованию этого рода относятся: рассказ о гибели мужа Марьи – Василька Константиновича в 1238 году в битве на реке Сити, рассказ о перенесении тела великого князя владимирского Юрия Всеволодовича во Владимир. Князь был убит в сражении на Сити, и его тело с поля боя сначала было перенесено в Ростов, а потом во Владимир. А также к этому циклу относится запись под 1246 годом об убиении в Орде Михаила Черниговского, отца Марьи.
В Лаврентьевской летописи в рассказе о Юрии Всеволодовиче подчеркивается не только воинская доблесть князя. Он отвергает предложение захватчиков мириться с ними, говоря, что «брань славна луче есть мира студна». Князь говорит: «Лучше добрая война, чем худой мир». Но летопись говорит и то, что его гибель – это страдание за христианскую веру.
Идея безграничной преданности долгу и вере с большой силой проявляется в рассказе о Васильке и в записи о гибели Михаила Черниговского – они не изменяют православию и не соглашаются признать «поганую» веру захватчиков. Такая трактовка причин гибели русских князей в годы монголо-татарского ига должна была восприниматься не только как подвиг страдальцев за веру, но и как мужественное выступление за честь Русской земли. Захваченного в плен Василька враги пытаются заставить признать их «поганские» обычаи, «быти в их воли и воевати с ними». Но князь не поддается ни уговорам, ни угрозам: «Никако же мене не отведете христьяньское веры, аще и велми в велице беде есмь». Михаил Черниговский, вызванный в Орду, отказывается «поклонитися огневи и болваном», за что «от нечестивых заколен бысть».
Со второй половины XIV века ведущее место в летописании и создании других историко-литературных памятников переходит к Москве, которая при Дмитрии Донском взяла на себя инициативу борьбы с Ордой. Они пишутся в Троице-Сергиевом монастыре, и в московских монастырях. В этих сочинениях проводится идея единства Руси, общности её киевского и владимирского периодов, ведущей роли Москвы в объединении русских земель и в борьбе с Ордой. Таким летописным сводом стал московский «Русский хронограф».
Уже в это время в московских летописных сводах возникает мысль о праве Москвы на собирание всех земель, бывших ранее в составе единого Древнерусского государства. Москва лишь приступила к этому процессу, но тогдашние идеологи уже сформулировали задачу московских князей на будущее.
Куликовская битва показала, что в союзе русские княжества могут успешно противостоять татаро-монголам. Победа на Куликовом поле имела огромное морально-нравственное значение для национального самосознания.
По мнению многих ученых Летописная повесть о Куликовской битве или «Побоище великого князя Дмитрия Ивановича на Дону с Мамаем» – это самый древний памятник Куликовского цикла, созданный в конце XIV века и сохранившийся в составе Софийско-Новгородского летописного свода 1448 года. В этом литературном произведении был впервые не только дан подробный и связный рассказ о Куликовской битве, но и резко осуждены два союзника Мамая: «льстивый отступник» рязанский князь Олег Иванович и «нечестивец» великий литовский князь Ягайло.
«Слово о великом князе Дмитрии Ивановиче и его брате Владимире Андреевиче», которое более известно под названием «Задонщина», сохранилось в двух редакциях – «Краткой» и «Пространной». «Задонщина» дошла до нас в шести летописных списках, самый ранний из которых, Кирилло-Белозерский, составленный монахом Кирилло-Белозерского монастыря Ефросином в 1470–1480-е годы, представляет собой переработку только 1-й половины первоначального текста «Задонщины». Остальные 5 списков составлены позднее в период с XV и до XVII века. Лишь два списка содержат полный текст, во всех списках много ошибок и искажений. Поэтому только на основе данных всех вместе взятых списков можно реконструировать текст произведения в целом.
Традиционно считается, что автором был некий Софоний Рязанец, брянский боярин, а затем рязанский иерей: в двух списках «Задонщины» он назван в заглавии автором произведения. Автор Сказания шаг за шагом повествует о начале нашествия Мамая, подготовке Дмитрия Донского к отпору врагу, о сборах рати, об исходе исторической битвы. В этом знаменитом поэтическом произведении средневековой Руси с особым пиететом прославлялся великий московский князь Дмитрий Донской, которого автор называет главным вдохновителем и организатором победы русских дружин и народного ополчения на Куликовом поле. Повесть проникнута высоким патриотическим духом, и недаром автор не раз обращается мысленно к событиям и образам «Слова о полку Игореве». «Задонщина» близка «Слову о полку Игореве» по характеру произведения, по сочетанию в нем плача и похвалы. «Слово» явилось для автора «Задонщины» образцом в стилистике и структуре подачи материала. Автор «Задонщины» в победе, одержанной над ордынцами, увидел реальное воплощение призыва своего гениального предшественника: объединенные силы русских князей смогли разгромить ордынцев, считавшихся до этого непобедимыми.
«Завоевание Руси татарами, хотя создало надолго фактическое господство силы, ловкости, хитрости и коварства, и тем породило множество рабских пороков, жестокости, лживости и грубости нравов, но в то же время во всех лучших русских людях породило жгучее сознание греховности, стремление к покаянью, к уразумению воли Божией исполнению ее. Влияние религиозной идеи, а рядом с нею церковности, а рядом с этим и Византийской идеи государственности, усилились до чрезвычайности. В то же время усилилось до жгучести сознание необходимости сплочения, объединения сил. В общем рабстве усилилось сознание единства русских людей без различия областных оттенков…»32.
ГЛАВА 80. Путь подвижника веры – аскета, праведника, святого
80.1. Аскетическое служение. Старчество
Татарский погром, как известно, тяжко отразился на духовной жизни Руси. Видимым свидетельством этого является полувековой, если не более, разрыв в преемстве иноческой святости. На время лик святых князей как бы вытесняет в Русской Церкви лик преподобных. Лишь в XIV веке, со второй его четверти, русская земля приходит в себя от погрома. Начинается новое монашеское движение. Почти одновременно и независимо друг от друга зажигаются новые очаги духовной жизни: на Валааме и в Нижнем Новгороде, на Кубенском озере и, наконец, в ближайшем соседстве с Москвой, в обители преп. Сергия. Золотым веком русской святости считаются XIV–XVI века. Характер и направления духовно-нравственного делания в этот период определили Сергий Радонежский и его ученики.
Со святых Сергия Радонежского и Александра Свирского начинается живительная струя духовной жизни, именуемая благодатным старчеством. Это служение имеет древнее христианское установление на пути к духовному совершенству. Старец – это монах (священник или нет), исполненный Духа Святого, и ставший для других наставником в христианской жизни.



