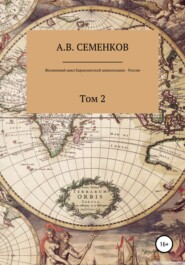 Полная версия
Полная версияЖизненный цикл Евроазиатской цивилизации – России. Том 2
В.О. Ключевский отмечал, что современники преп. Иосифа оставили нам достаточно черт для характеристики этой совершенно реальной, вполне положительной личности: «Ученик и племянник его Досифей в своем надгробном слове Иосифу изображает его с портретной точностью и детальностью, хотя несколько приподнятым тоном и изысканным языком. Проходя суровую школу иночества в монастыре Пафнутия Боровского, Иосиф возвышался над всеми его учениками, совмещая в себе, как никто в обители, разнообразные качества духовные и телесные, остроту и гибкость ума соединяя с основательностью, имел плавный и чистый выговор, приятный голос, пел и читал в церкви, как голосистый соловей, так что приводил слушателей в умиление: никто нигде не читал и не пел, как он. Святое писание знал он наизусть, в беседах оно было у него все на языке, и в монастырских работах он был искуснее всех в обители. Он был среднего роста и красив лицом, с округлой и не слишком большой бородой, с темно-русыми, потом поседевшими волосами, был весел и приветлив в обращении, сострадателен к слабым. Церковное и келейное правило, молитвы и земные поклоны совершал он в положенное время, отдавая остальные часы монастырским службам и ручным работам. В пище и питии соблюдал меру, ел раз в день, иногда через день, и повсюду разносилась слава его добродетельного жития и добрых качеств, коими он был исполнен». [Ключевский В.О.: Том 2, С. 380–381. История России, С. 21773–21774].
Неудивительно, что Москва, т.е. великокняжий двор, проведала об Иосифе. Он был поставлен в иерейское звание, и по воле великого князя назначен преемником скончавшегося Пафнутия. Иосиф принял игуменское поставление от рук самого митрополита Геронтия. Однако не всем пафнутиевским монахам пришелся по душе новый начальник. Иосиф не скрывал, что считает своим игуменским долгом изменить благодушный пафнутиевский, да и вообще господствующий, уставной хаос монастырской жизни и ввести строгое общежитие по типу монастырей Востока и св. Горы – Афона. Для Иосифа не было, конечно, секретом господствующее сопротивление этому плану коренных Пафнутиевцев. Очевидцы говорили о возникших в братии несогласиях, пререканиях и сопротивлении игумену. «Поручив монастырь первым от братии», Иосиф удалился в путешествие по другим монастырям для собирания практических наблюдений о возможностях осуществления монашеского идеала.
Иосиф решил быть реформатором не на прежнем, а на новом свежем месте: «не могий терпети от помысла: возгореся бо сердце его огнем Св. Духа». Он решил поселиться на диком месте и «тамо общее жительство обновити». Иосиф искал не абсолютного одиночества, ибо пошел и в пустыню не для созерцательного пустынножительства, а для организации монашеского общежития, соответствующего идеалу общежительного строя. Вместе с Волоцким князем Борисом Иосиф отправился на поиски места, на котором и стоит Волоколамский монастырь и до наших дней. По глубокому пониманию Иосифа монастырь – это одна из центральных клеток общежития православного народа, включенная в систему других невраждебных, а родственных ей, социальных клеток всего крещеного народа. Нужно было действовать не единолично, строя одному себе «келью под елью». На слух о новом строительстве потянулся народ.
Монастырский устав, составленный св. Иосифом, состоит из 14 глав, 9 из которых посвящены материальным вопросам. Он представляет собой свод правил, регулирующих монашескую жизнь до мельчайших подробностей. Каждый шаг, каждое действие, каждое слово монаха подчиняются определенным правилам, и для всех нарушений заранее установлены строгие наказания: от 50 до 100 поклонов, пост на черством хлебе, а иногда, за более тяжкие проступки, – телесные наказания.
Начинается и духовный, и практический технический созидательный труд. Подвиг уставного молитвенного жития и почти сверхсильного упорного физического труда. При устроении монастыря, когда еще не было мельницы, хлеб мололи ручными жерновами. Неутомимым работником был сам Иосиф. После заутрени он усердно занимался помолом зерна. Один пришлый монах, раз застав игумена за такой неприличной его сану работой, воскликнул: «Что ты делаешь, отче! пусти меня» – и стал на его место. На другой день он опять нашел Иосифа за жерновами и опять заместил его. Так повторялось много дней. Наконец монах покинул обитель со словами: «Не перемолоть мне этого игумена».
Преподобный Иосиф оставил после себя значительное духовно-литературное наследие. До нас дошли более 20 его посланий к различным лицам по моральным и богословским вопросам, Устав, которым он наделил свой монастырь и 16 речей («Слов») против жидовствующих, которые составили сборник под общим заглавием «Просветитель».
Эту книгу Иосиф Волоцкий написал в период борьбы с жидовствующими. Она возникла не сразу, а постепенно, и только после смерти автора получила от Собора 1553 года то заглавие, под которым она известна до сих пор. «Просветитель» в течение более чем 3-х столетий сохранялся лишь в рукописном виде. Только в 1859 году этот труд был издан профессорами Казанской духовной академии и стал доступным широкой публике.
Составление «Просветителя» было обусловлено потребностями тогдашнего русского общества, и поэтому этот труд, как единственный в своем роде и полностью соответствовавший своему назначению, с неизбежностью оказал огромное влияние на мышление и нравы Московской Руси. Труд содержит множество изречений, полных здравого смысла, он весь пропитан благочестием и твердостью убеждений. «Просветитель» представляет собой значительное явление в истории русской духовной литературы. Этот труд является образцом русского духовного просвещения того времени.
В.О. Ключевский так характеризует служение Иосифа Волоцкого: «Видно, что это был человек порядка и дисциплины, с сильным чутьем действительности и людских отношений, с невысоким мнением о людях и с великой верой в силу устава и навыка, лучше понимавший нужды и слабости людей, чем возвышенные качества и стремления души человеческой. Он мог покорять себе людей, выправлять и вразумлять их, обращаясь к их здравому смыслу. В одном из житий его, написанных современниками, читаем, что силой его слова смягчались одичалые нравы у многих сановников, часто с ним беседовавших, и они начинали жить лучше: "Вся же тогда Волоцкая страна к доброй жизни прелагашеся". Там же рассказано, как Иосиф убеждал господ в выгоде снисходительного отношения их к своим крестьянам. Обременительная барщина разорит хлебопашца, а обнищавший хлебопашец – плохой работник и плательщик. Для уплаты оброка он продаст свой скот: на чем же он будет пахать? Его участок запустеет, станет бездоходным, и разорение крестьянина падет на самого господина. Все умные сельскохозяйственные соображения – и ни слова о нравственных побуждениях, о человеколюбии.
При таком обращении с людьми и делами Иосиф, по его признанию, не имевший ничего своего при поселении в волоколамском лесу, мог оставить после себя один из самых богатых монастырей в тогдашней России. Если ко всему этому прибавим непреклонную волю и физическую неутомимость, получим довольно полный образ игумена – хозяина и администратора – тип, под который подходило с большей или меньшей удачей большинство основателей древнерусских общежительных монастырей». [Ключевский В.О.: Том 2, С. 381. История России, С. 21774].
ГЛАВА 82. Вопрос о монастырском землевладении в споре иосифлян и нестяжателей
82.1. Влияние монастырского землевладения на течение духовно-религиозной жизни
К концу XVI века обнаружились затруднения для дальнейшего функционирования поместной системы землевладения, которые были связаны с недостатком удобной для испомещения земли. Недостаток этот проявился в двух аспектах. На степном юге, где государству нужно было особенно много военно-служилых людей, правительство располагало для их хозяйственного обеспечения обширными площадями плодородной земли. Однако эти территории были еще слабо заселены, и нуждались в усиленном хозяйственном обустройстве. В центральных уездах земли менее плодородные были достаточно заселены и обустроены, но их уже оставалось мало в распоряжении правительства. Здесь господствовало крупное вотчинное землевладение, боярское и церковное.
В Московской Руси особенно успешно развивалось монастырское землевладение, большие монастыри были очень богатые общества, каждый член которых, однако, давал обет нищеты, отрекаясь от всякой собственности. Единственное оправдание монастырского землевладения было указано церковным правилом: «церковное богатство – нищих богатство».
Начиная со второй половины XIV века, после проведения монастырской («общежитийной») реформы митрополита Алексия, Русская Церковь превратилась в крупнейшего земельного собственника. Светская власть неоднократно пыталась прибрать к рукам огромные земельные богатства Церкви, но даже Ивану Грозному не удалось решить эту проблему. При нем лишь частично были ограничены налоговые («тарханные») привилегии Церкви, а также наложен жесткий запрет на свободное приобретение монастырями новых земель без доклада царю. В середине XVII века крупнейшим монастырям: Троице Сергиев, Соловецкий, Иосифо-Волоцкий, Кирилло-Белозерский – принадлежала треть всей пахотной земли. Этим фактом во многом определялся политический вес Русской Церкви не только в церковных и религиозных, но и сугубо светских государственных делах. Однако большая часть монастырей и церковных приходов были безземельными и получали на свое содержание «царскую ругу».
Вотчины жалованные, испрошенные у мирской власти, были основным фондом земельного богатства монастырей. Монастырские вотчины составились из земель служилых людей и из земель казенных и дворцовых, составлявших запасный фонд для обеспечения служилых людей. Монастырское землевладение своими успехами создавало государству большие затруднения в деле материального обеспечения военно-служилого класса. Предпринимаемые правительством, в тот период, попытки вернуть отходившие к монастырям земли в казну или представителям служилого класса, были чаще всего неудачными. При этом потери государственного хозяйства на монастырском землевладении, ему приходилось возмещать за счет усиления эксплуатации крестьянского труда, усиливая его податное напряжение. А потом, льготные земли монастырей были постоянной угрозой для доходности земель казенных и служилых, маня к себе крестьян с тех и других своими льготами. Правительство вынуждено было для ослабления этой опасности полицейскими мерами ограничивать крестьянское право перехода от одного хозяина к другому. Это ограничение еще не крепостная неволя крестьян; но оно подготовило полицейскую почву для этой неволи. Таким образом, монастырское землевладение содействовало и увеличению тягости крестьянского труда, и уменьшению его свободы.
Это привело московское правительство к столкновению с церковной иерархией. В связи с чем, неоднократно поднимался вопрос о церковных, и о собственно монастырских вотчинах. Но с этим вопросом, который для государства имел только экономическое, аграрное значение, сплелось столько разнообразных интересов политических, социальных, церковно-нравственных, даже богословских, что он разросся в целое государственное и церковное движение. Это движение внесло значительное оживление в жизнь Московской Руси, и придало особый характер целому веку нашей истории.
Преподобный Кирилл Белозерский был против владения селами и отклонял предлагаемые земельные вклады, но вынужден был уступить настояниям вкладчиков и ропоту братии, и монастырь уже при нем начал приобретать вотчины.
В.О. Ключевский задается вопросом: «как могло случиться, что общества людей, отрекавшихся от мира и всех его благ, явились у нас обладателями обширных земельных богатств, стеснявших государство?»
В.О. Ключевский показывает, какое направление принимала жизнь старых пустынных общежительных монастырей к половине XVI века. Он отмечает, что рост монастырского землевладения, накапливаемого ими материального богатства, имел следующие последствия. Из трудовых земледельческих общин, питавшихся своими трудами, где каждый брат работал на всех и все духовно поддерживали каждого из своей братии, многие из этих монастырей, если не большинство, разрослись в крупные землевладельческие общества со сложным хозяйством и привилегированным хозяйственным управлением. Монастырское братство обременялось многообразными житейскими суетами, поземельными тяжбами и запутанными мирскими отношениями.
Окруженное монастырскими слободами, слободками и селами, братство такого монастыря представляло собой, по словам В.О. Ключевского, «черноризческое барство». На него работали сотни и тысячи крестьянских рук, а оно властно правило своими многочисленными слугами, служками и крестьянами, а потом молилось о всем мире, и особенно о мирянах-вкладчиках своего монастыря. Инок, полагавший в основу своего подвига смирение и послушание, «еже не имети никоея же своея воля», видел себя членом корпорации, властвовавшей над многочисленным населением монастырских земель.
Богатые монастыри накапливали большие суммы денежных средств, обильно приливавшие к ним от вкладчиков и из обширных вотчин. Монастыри обогащались за счет вкладов по душе и взносами для пострижения. Таким взносом как бы обеспечивалось пожизненное содержание постриженика в монастыре. Этот источник расширялся по мере того, как в древнерусском обществе укреплялся обычай постригаться под старость или перед смертью.
Куда же девали богатые монастыри свои деньги? Обличители XVI века настойчиво повторяют, что монастыри вопреки церковным правилам дисконтировали – отдавали деньги в рост, особенно в ссуду своим крестьянам. Вассиан Косой изображает их суровыми заимодавцами, которые налагали «лихву на лихву», проценты на проценты. Для погашения задолженности они у несостоятельного должника-крестьянина отнимали корову или лошадь, а самого с женой и детьми сгоняли со своей земли или судебным порядком доводили до конечного разорения. Это обвинение в «заимоданиях многолихвенных убогим человеком» было выдвинуто на Стоглавом соборе и отчасти поддержано царем, который спрашивал: «Церковную и монастырскую казну в рост дают – угодно ли это богу?» Отцы собора отвечали постановлением: архиереям и монастырям деньги и хлеб давать крестьянам своих сел без роста, чтобы крестьяне за ними жили, от них не бегали и села их не пустовали бы. Так, по вине земельного богатства монастыри начали превращаться из убежищ нищей братии в ссудолихвенные конторы.
Монастырское землевладение затрагивало интересы государства и служилого класса, еще и таким образом. Обилие денег давало монастырям возможность, повышая покупные цены, и перебивать продаваемые земли у других покупателей, особенно у слабосильных служилых людей, что обеспечило монастырям господство на земельном рынке. Дети боярские жаловались правительству, что «мимо монастырей вотчин никому ни у кого купить не мочно».
В поднявшемся споре о монастырском землевладении, и о необходимости преобразования существующих монастырей обозначились два направления, два резко различных взгляда, которые, встретившись, возбудили шумный вопрос, волновавший русское общество почти до конца XVI века и оставивший яркие следы в литературе и законодательстве того времени.
Одни хотели в корне преобразовать все монастыри на основе нестяжательности, освободив их от вотчин. Другие надеялись исправить монастырскую жизнь восстановлением строгого общежития, которое примирило бы монастырское землевладение с монашеским отречением от всякой собственности. Первое направление проводил преп. Нил Сорский, второе – преп. Иосиф Волоцкий.
82.2. Вопрос о монастырском землевладении на церковном соборе
На церковном соборе 1503 года оба борца встретились и столкнулись. Заволжские старцы отрицали право монастырей владеть (стяжать) землями и богатой собственностью, считая это несовместимым с монашеским служением, а некоторые, например Вассиан Косой, даже выступали за конфискацию церковных владений.
Иван III, при активной поддержке нестяжателей, попытался на этом церковном соборе реализовать правительственную программу секуляризации церковных земель. Столкнувшись с мощным сопротивлением иосифлян, великий государь вынужден был отступить, а затем дать свое согласие на расправу с еретиками.
Собор Русской Церкви 1503 года, в котором особую роль сыграл Иосиф Волоцкий, осудил эту сторону деятельности заволжских старцев и высказался за сохранение и укрепление церковной и монастырской собственности. Эта же позиция еще строже была подтверждена Собором 1531 года.
По мнению Иосифа Волоцкого и его сподвижников, воззрения заволжских старцев, при их моральной привлекательности, несли серьезную опасность нормальной жизнедеятельности Русской Церкви, ослабляли ее роль в государстве. Лишаясь земель и собственности, церкви и монастыри теряли возможность вести широкую пастырскую, благотворительную и просветительскую деятельность, оказывать благотворное влияние на общественную жизнь.
Собор согласился с Иосифом, и свое заключение представил Ивану III в нескольких докладах, очень учено составленных, с каноническими и историческими справками. Но вот что в этих докладах возбуждает недоумение: на соборе оспаривали только монастырское землевладение, а великому князю отцы собора заявили, что они не благоволят отдавать и архиерейские земли, против которых на соборе никто не говорил. Дело объясняется молчаливой тактикой стороны, восторжествовавшей на соборе. Иосиф знал, что за Нилом и его нестяжателями стоит сам Иван III, которому были нужны монастырские земли. Эти земли трудно было отстоять: собор и связал с ними вотчины архиерейские, которых не оспаривали, обобщил вопрос, распространив его на все церковные земли, чтобы затруднить его решение и относительно монастырских вотчин. Иван III молча отступил перед собором.
Итак, дело о секуляризации монастырских вотчин, поднятое кружком заволжских пустынников по религиозно-нравственным побуждениям, встретило молчаливое оправдание в экономических нуждах государства и разбилось о противодействие высшей церковной иерархии, превратившей его в одиозный вопрос об отнятии у церкви всех ее недвижимых имуществ.
При всех полемических усилиях и успехах нестяжателей московское правительство после собора 1503 года покинуло наступательные планы против монастырских вотчин и ограничилось обороной.
В дальнейшем длинный ряд указов и пространные рассуждения на Стоглавом соборе о монастырских непорядках, не решали вопроса по существу. Были предприняты различные меры с целью остановить дальнейшее земельное обогащение монастырей на счет служилого класса, «чтоб в службе убытка не было, и земля бы из службы не выходила». Вместе с тем усиливался и правительственный надзор за монастырскими доходами и расходами. Но все эти меры не дали ощутимых результатов. Попытка царя Ивана около 1550 года воспользоваться ближайшими к Москве землями митрополичьей кафедры для хозяйственного устройства служилых людей встретила решительный отпор со стороны митрополита.
Все отдельные меры завершились приговором церковного собора с участием бояр 15 января 1580 года. Собором было постановлено: архиереям и монастырям вотчин у служилых людей не покупать, в заклад и по душе не брать и никакими способами своих владений не увеличивать. Вотчины, купленные или взятые в заклад у служилых людей архиереями и монастырями до этого приговора, отобрать на государя, который за них заплатит или нет – его воля. Вот все, чего могло или умело добиться от духовенства московское правительство в XVI веке в деле о церковных вотчинах.
82.3. Нравственное измерение вопроса о монашеском служении и церковном имуществе
В.О. Ключевский отмечает: «Монастырское землевладение было вдвойне неосторожной жертвой, принесенной набожным обществом недостаточно ясно понятой идее иночества: оно мешало нравственному благоустроению самих монастырей и в то же время нарушало равновесие экономических сил государства. Раньше почувствовалась внутренняя нравственная его опасность». [Ключевский В.О.: Том 2, С. 376. История России, С. 21769].
Монашеское служение требует удаления от мира, и его обременяет забота о материальных благах, а тем более владение большим имуществом. Святитель Игнатий Брянчанинов в своих трудах подчеркивает неотмирность задач монашеского служения. В Аскетических опытах святитель Игнатий говорит о нестяжании следующее: «Удовлетворение себя одним необходимым. Ненависть к роскоши и неге. Милосердие к нищим. Любление нищеты евангельской. Упование на промысл Божий. Последование Христовым заповедям. Спокойствие и свобода духа. Беспопечительность. Мягкость сердца».34
Слова Спасителя обращены ко всем желающим духовно-нравственного исцеления и спасения, и к мирянам, но тем более к монашествующим. В Евангелии от Матфея сказано: «Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом не радеть. Не можете служить Богу и мамоне. Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды? Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них; если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры! Итак, не заботьтесь и не говорите: «что нам есть? или что пить? или во что одеться?». Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Мф. 6: 24-33).
Монашеское благочестие в сравнении с мирским – требует более решительного разрыва с имущественными интересами, с заботой о материальных благах. Здесь образцом может служить притча о том, как трудно богатому войти в Царствие Небесное. В Евангелии от Матфея сказано: «И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель благий! что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он же сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Говорит Ему: какие? Иисус же сказал: «не убивай»; «не прелюбодействуй»; «не кради»; «не лжесвидетельствуй»; «почитай отца и мать»; и: «люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит Ему: всё это сохранил я от юности моей; чего еще недостает мне? Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною. Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам Своим: истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное; И еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Услышав это, ученики Его весьма изумились и сказали: так кто же может спастись? А Иисус, воззрев, сказал им: человекам это невозможно, Богу же всё возможно» (Мф 19:16–26) .
Летописец в рассказе об устроении Печерского монастыря, в ПВЛ под 1051 годом, говорит: «Ибо много монастырей устроено царями и боярами и от богатства, но не такие они, как те, что поставлены слезами, постом, молитвою, бессонными ночами. Антоний ведь не имел ни золота, ни серебра, но достиг всего слезами и постом, как я уже говорил».
Нил и стоявшие за него Белозерские пустынники говорили об истинном смысле и назначении иночества. Скитское миросозерцание Нила все сполна было против монастырского землевладения. Его возмущали, как он писал, эти монахи, кружащиеся ради стяжаний; по их вине жизнь монашеская, некогда превожделенная, стала «мерзостной». Проходу нет от этих лжемонахов в городах и весях; домовладельцы смущаются и негодуют, видя, как бесстыдно эти «прошаки» толкутся у их дверей. Нил и стал умолять великого князя, чтобы у монастырей сел не было, а жили бы чернецы по пустыням и кормились бы своим рукоделием.
Иосиф ссылался на примеры из истории Восточной и Русской Церкви и при этом высказал такой ряд практических соображений: «Если у монастырей сел не будет, то как честному и благородному человеку постричься, а если не будет доброродных старцев, откуда взять людей на митрополию, в архиепископы, епископы и на другие церковные властные места?» [Ключевский В.О.: Том 2, С. 382. История России, С. 21775].
Итак, если не будет честных и благородных старцев, то и вера поколеблется. Этот силлогизм впервые высказывался при обсуждении церковно-практического вопроса. Церковные авторитеты не ставили монастырям задачи быть питомниками и рассадниками высших церковных иерархов и не признавали непременным оплотом веры иерархию родовитого происхождения, как это было в Польше.



