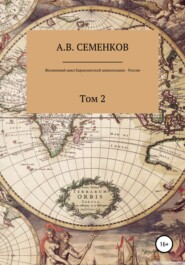 Полная версия
Полная версияЖизненный цикл Евроазиатской цивилизации – России. Том 2
Боярская дума состояла из служилых чинов: бояр, окольничих, думных дьяков. В ее состав входили «введенные бояре» – люди, введенные во дворец в качестве постоянных помощников великого князя в управлении, из бывших удельных князей, возведенных в чин думского боярина, и окольничие – лица, занимавшие высшие придворные должности. Численность членов Думы была невелика – до 20 человек. Получение думного чина зависело от воли государя. Членство в ней давалось за особые заслуги перед государством и являлось пожизненным. Члены Думы назначались великим князем в строгом соответствии с правилами местничества, по степени родовитости, а не по делам и способностям, отчего бояре постоянно враждовали между собой за должности. Высокопородные князья могли сразу получить высший чин – боярина, менее знатные начинали с окольничего, прочие, из «худородных» служилых людей, получали чин думного дворянина, введенный для них при Василии III.
Права Боярской думы никаким законом не определялись, здесь действовало обычное право. Боярская дума должна была ежедневно заниматься текущими внутренними и внешними делами страны, решать споры и конфликты. Как орган государственной власти она обладала правом назначения центральных и местных начальников (воевод, судей, приказных чипов и др.). Боярская дума руководила приказами и другими органами управления, она определяла, кому осуществлять непосредственное руководство приказами – специальными учреждениями, которые ведали военными, финансовыми, иностранными делами. В Боярской думе сосредоточивались судебные дела (по Докладу и по апелляции). Принадлежала ей и законодательная инициатива, как и право принимать и утверждать законы. В XV веке был оформлен юридический статус Думы. Судебник 1497 года отводит Думе такую роль в процессе законотворчества: «А которые будут дела новые, а в сем Судебнике не написаны, и как те дела с государева докладу и со всех бояр приговору вершатся, и те дела в сем Судебнике приписывати».
63.3. Приказная система исполнительной власти и управления
Возникновение приказов большинство историков относит к концу XV века, связывая их происхождение с разросшимися функциями «Казны», ростом значимости в деле управления Боярской думы, и переводом в Москву органов управления присоединенных княжеств. В период правления Ивана III стали создаваться специальные учреждения для руководства различными хозяйственными, финансовыми, оборонными делами в масштабе страны. Великий князь «приказывал» тому или иному лицу ведать каким-либо «делом» или отраслью управления. Царь приказал, царь приказал. Так возникли новые органы управления, которые назывались приказами (от «приказать», «поручить»), эти учреждения разбирали большинство дел. Новые органы центрального управления – приказы – возникали без законодательной основы, спонтанно, по мере надобности. Одни, возникнув, исчезали, когда отпадала в них надобность, другие дробились на отделы, превращавшиеся в самостоятельные приказы.
Осуществление отдельных государственных функций в XV веке поручалось боярам, а также неродовитым, но грамотным служилым людям – дьякам. Постепенно эти нерегулярные поручения («приказы») получали более постоянный характер. Появились такие должности, как казначей, печатник, разрядный и ямской дьяки. Первоначально в XV веке эти должностные лица осуществляли свои функции без вспомогательного аппарата. Но с усложнением задач им давались «для письма» с начала XVI века чиновники помельче – подьячие, которые собирались в особом помещении – «избе», «дворе», т.е. своего рода канцелярии. Процесс образования «изб», «дворов» – канцелярий растянулся на несколько десятилетий с конца XV и до середины XVI века. Должностные лица, не имевшие своих канцелярий – «изб», вели делопроизводство в уже сложившихся «избах», «дворах». Так, в первом из возникших «дворов» – Казенном впредь до образования соответствующих «изб» велись разрядные, поместные, разбойные, ямские и другие дела. Уже Судебник 1497 года, говоря об особых людях, которым «люди приказаны ведати», свидетельствует об их существовании.
Приказы осуществляли разбор споров и дел, связанных с определенной отраслью, вопрос о назначении судьи для разбора того или иного дела каждый раз решался, «приказывался» великим князем. Все приказы являлись не только административными учреждениями, но и судебными, а потому приказных людей называли судьями. Во главе приказа стоял боярин или думный дворянин, руководивший штатом чиновников, состоявшим из дьяков, подьячих и других должностных лиц. Подьячие возглавляли канцелярию приказа, делившуюся, в свою очередь, на столы и повытъя по ветвям управления. Приказы подчинялись царю и Боярской думе, имея, в свою очередь, в подчинении местное управление. Не существовало и строгого разграничения функций между приказами, к примеру, в Посольском приказе, пытали участников восстаний, брали у них «расспросные» и «пыточные» речи.
Одним из первых «приказов», превратившихся в постоянное учреждение, было центральное финансовое ведомство – Казна. Казенный приказ был не только дворцовым, но и общегосударственным учреждением. Первое упоминание о Казенном дворе относится к 1493 году (опальный князь Андрей Васильевич Большой сидел в «тюрьме на Казенном дворе»), но следы существования этого учреждения встречаются гораздо раньше. Само наименование Казенный приказ впервые упоминается в 1512 году. В организации этого приказа заметную роль сыграл византийский финансист и купец Петр Ховрин-Головин, потомки которого были казначеями на протяжении нескольких поколений. Казначеи ведали Денежным двором, собирали государеву подать в Москве и «дань» в Новгороде, оплачивали военные расходы и пр. Со временем из состава Казны выделились узкофинансовые ведомства вроде Большого прихода. Поземельные дела стал вершить Поместный приказ, военные дела – Разрядный приказ, суд – Разбойный приказ.
Впервые слово «казначей» можно встретить в «штатном расписании» Казенного приказа – учреждения, которое в период от Ивана III до Петра I заведовало царской казной. Там хранились: золото, серебро, посуда, бархат, шелк и другие драгоценности. Для хранения сборов и податей специальных касс тогда не было, каждый приказ хранил собираемые им доходы самостоятельно. Системной организации государственных финансов до Петра I не существовало.
Являясь главой Казенного приказа – важнейшего дворцового ведомства, сложившегося как общегосударственное учреждение ранее многих других ведомств, казначей уже со второй половины XV в. осуществлял и общегосударственные задачи: он ведал дипломатическими сношениями, ямскими, поместными, холопьими и другими делами. Здесь же на Казенном дворе находился и печатник – хранитель «большой государственной печати», прилагаемой к важнейшим общегосударственным документам (и прежде всего документам дипломатического характера).
С образованием Русского централизованного государства возросли и его международные связи. Это повлекло за собой появление должности посольского дьяка (1486). Все важнейшие решения по вопросам внешней политики по-прежнему принимал царь, «поговорив с братьею и бояры», т.е. местом общего руководства внешней политикой была Боярская дума. Переговоры с послами вела специальная думская комиссия из бояр и посольского дьяка, который вскоре стал думным дьяком. Посольский дьяк выступал посредником между Боярской думой и послами. Он вел дипломатическую переписку и присутствовал на заседаниях Боярской думы. Для переписки первоначально использовался канцелярский аппарат Казенного двора, где происходили заседания думской комиссии и посольского дьяка с послами.
Созданием централизованной приказной системы, в деятельности которой главную роль играло служилое дворянство, государство ограничило роль боярско-вотчинной верхушки и свело на нет систему вотчинного управления. Эта же тенденция – увеличение роли государства с опорой на формирующееся третье сословие – прослеживается и в реформе местного управления.
63.4. Военное дело в Московском государстве
В Московском государстве существовали два рода войск: народное ополчение (пехота) и служилое войско из дворян и детей боярских (конница). С введением сошного письма отправление военной повинности населением было упорядочено, и введена, так называемая, посоха. По мере необходимости с каждой сохи бралось то или иное число воинов: по человеку и коню с 4 сох, по человеку и коню с 10 сох. Иногда воинская повинность распределялась по дворам: по коннику с 3 или с 5 дворов, которые доставляли также снаряжение и вооружение ратников. Но уже в XV веке дворянские полки стали вытеснять посоху, которая не отвечала новым требованиям, связанным с применением пороха, совершенствованием военного искусства. В XVI веке вводятся постоянные дворянские войска, служба в которых вознаграждается поместьями. В особых слободах при Москве, а затем и других городов размещается также стрелецкое войско. Стрельцы совмещали военную службу с хозяйственной деятельностью, получая жалованье за службу и землю для ведения хозяйства, занимались промыслами и торговлей. В конце XVI века по некоторым свидетельствам дворянское войско в России (рейтарские, пушкарские, конные, городовые казачьи полки, полки «литовского списка» и др.) составляло 80 тысяч ратников.
Политика Ивана III привела к созданию единого Российского государства, обладающего суверенными правами на всей своей территории. Этот факт решающим образом повлиял на военную систему Русской земли. Совокупность княжеских ополчений превратилась в единое российское войско под единым командованием и централизованным руководством. Существенное влияние на военное дело повлияло и то, что во второй половине XV века Россия втянулась в процессы, связанные с военной (или «пороховой») революцией, результатом которой стало увеличение численности армий.
Василий II Темный на закате своего правления мог выставить в поле без особых проблем рать, насчитывающую несколько тысяч всадников. Ивану III, в распоряжении которого после покорения Новгорода и Твери и подчинения Рязани и Пскова оказались ресурсы практически всей Русской земли, было вполне по силам послать на своих неприятелей 15–20-тысячную рать (имея при этом еще и значительный резерв).
По мере роста численности воинства все более остро ставится проблема материально-технического обеспечения армии, продовольственного обеспечения личного состава и фуражирования конницы. То, что работало в тех условиях, когда войско в походе насчитывало несколько сот или тысяч человек, в случае с армией, имевшей десятки тысяч «едоков», двуногих и четвероногих, работать переставало. Ведь если посчитать требуемый припас даже по минимальной норме, то обоз войска, насчитывающего десятки тысяч ратных, обозных служителей и коней – строевых, вьючных и обозных, – вырастал до фантастических размеров.
Подготовки войск в мирное время не было, недостаток заблаговременной выучки искупался практически непрерывным боевым опытом. Русское воинство отличалось преданностью князьям, неприхотливостью в быту, выносливостью в походах, трудах и лишениях, мужеством и храбростью в бою, смелостью в открытом поле, упорством в обороне за городскими стенами. Военное дело в Восточной Руси шло по пути совершенствования, что явилось главным образом следствием единения Руси под эгидой княжеской власти.
ГЛАВА 64. Процессы и тенденции становления и развития местного управления. Формирование органов государственной власти и управления на местах
64.1. Местная администрация. Представители государственной власти на местах
Административное деление Московского княжества на уезды, станы и волости было перенесено и на все Московское государство. Административной единицей территориального деления был уезд – округ, приписанный к какому-либо городу, откуда его судили и собирали с него дань. Части уезда назывались волостями. Основной хозяйственной единицей была волость. Иногда наряду с делением на волости встречается и деление на станы. Деление это было крайне неравномерно.
С распространением власти великого князя московского на более обширные территории появилась необходимость точнее определить обязательства местных жителей по отношению к великокняжеским представителям, особенно во вновь присоединенных регионах, где люди не были знакомы с московской административной системой. Первые списки обязательств народа по отношению к кормленщикам относятся к середине XV века.
Управление на местах находилось в ведении великокняжеских наместников, которые назначались в каждый крупный город, и в уезды, а также волостелей, назначавшихся в каждый сельский район – волость. Назначение на эти должности называлось княжеским пожалованием. Представители княжеской власти на местах назначались из числа бояр. Волостели не всегда были подчинены наместникам, а иногда, особенно в больших волостях, сносились непосредственно с князем.
Наместники и волостели были наделены обширными судебно-административными полномочиями для управления местными делами. Наместник отправлялся в назначенную ему область с одним или двумя дьяками, которые заведовали всеми приказными делами по управлению областью. Областные правители и дьяки назначались по царскому указу и через год обыкновенно сменялись.
Наместники и волостели ведали «судом и данью», то есть сбором податей и пошлин в государственную казну, выполняли полицейские функции, распоряжались военными силами, снаряжали войско и т.п. Основной их функцией был суд – чинили суд и расправу. Грамоты и судебники предписывали им и их тиунам «без соцких и без добрых людей не судити суд». При них действовал особый штат помощников: тиуны, ведавшие хозяйством, судьи, доводчики (лица, осуществлявшие вызов в суд), праветчики (судебные исполнители), недельщики, пошлинники, пятенщики и пр., число которых определялось уставными грамотами. Все эти должностные лица являлись, как правило, дворовыми слугами наместников и волостелей. В своей деятельности наместники и волостели опирались на помощь органов местного самоуправления: сотских, старост, собиравших для них корм.
В связи с военными нуждами и укреплением обороноспособности государства во второй половине XV века в городах появляются особые должностные лица местного управления – городовые приказчики. Сферой деятельности городничего (так стали называться бывшие городчики), по существу, военного коменданта города является «городовое дело», т.е. забота о строительстве и укреплении города. В его обязанности входил надзор за состоянием городских укреплений, за выполнением местным населением повинностей, связанных с обороной. Постепенно они оттесняют наместников-кормленщиков вначале от военно-административного, а затем от ряда отраслей земского, финансового и даже судебного управления.
К концу XV функции городничих расширились. Возросли и их властные полномочия. Им были предоставлены широкие полномочия в земельной, финансовой и других сферах управления, причем не только в городе, но и прилегающем уезде.
Городовые приказчики подчинялись непосредственно великому князю по ведомству казначея. В заведовании великокняжеского казначея находились, первоначально, военно-административные дела и, прежде всего, учет и хранение всех государственных запасов оружия и боеприпасов. С образованием Разрядного приказа городовые приказчики по характеру их главных функций попали, по-видимому, в его ведение. Иногда на один город назначались два приказчика и более. Должность городовых приказчиков замещалась местными землевладельцами, главным образом, дворянами и детьми боярскими. Городовые приказчики, назначаемые великим князем из поместного служилого дворянства, не зависели ни от наместника, ни от Боярской думы.
С начала XVI века институт городовых приказчиков становится распространенным звеном местного управления. Основным назначением городовых приказчиков было заведование строительством и укреплением городов, надзор за строительством мостов и дорог («мостовое и ямское дело»), производством «зелья» (пороха), хранением боеприпасов, оружия, продовольствия, сбор народного ополчения и т. п.
Со второй четверти XVI века функции городовых приказчиков значительно расширились. Им был поручен надзор за великокняжеским земельным фондом в городах и уездах. Они отвечали за описание земель, раскладку и сбор ряда общегосударственных денег, надзор за косвенными налогами (таможенными и мытными сборами). Городовые приказчики получили право ковать «в железо» и сажать в тюрьму неплательщиков государственных налогов.
Власть местных органов не распространялась на боярские вотчины. Княжата и бояре в своих вотчинах были законодателями, администраторами и судьями.
64.2. Система кормлений
Содержание наместников и волостелей состояло из кормов и пошлин, поэтому представители княжеской администрации на местах назывались кормленщиками, а система местного управления – кормлениями. Иначе говоря, финансирование органов местного управления, оплата труда должностных лиц осуществлялось через систему «кормлений», т. е. взимания с населения натуральных продуктов и денежных сумм, судебных и других пошлин.
Наместники и волостели не получали жалованье от великого князя из казны за свою службу, и они должны были вместе с подчиненными содержаться за счет подвластного населения. Им было дано право собирать «корм» с местного, подвластного им населения. В уставных грамотах каждого уезда определялись виды и размеры «кормов». Существовало несколько видов кормлений: выездные, праздничные, свадебные. «Корм» состоял из въезжего корма (единовременного подношения) и периодических натуральных или денежных поборов (2–3 раза в год, на Рождество, Пасху и Петров день 29 июня старого стиля). В него входили также торговые (с иногородних купцов), судебные и брачные пошлины. Пошлины подразделялись на торговую и «роговую». За судебные действия наместники и волостели получали пошлину, в их пользу конфисковалось имущество осужденных за тяжкие преступления и «дикая вира». За превышение таксы корма грамоты грозили наказанием («быти в казни»).
Если в одну местность посылался не один, а два или несколько наместников или волостелей, то они делили свое кормление поровну (ст. 65 Судебника). Стремление Судебника 1497 года централизовать судебный аппарат особенно ярко сказалось при определении прав наместничьего суда. Судебник устанавливает два вида кормлений: кормление без боярского суда и кормление с боярским судом. Наместники и волостели, державшие кормление с боярским судом, имели право окончательного решения ряда наиболее важных дел (о холопах, татях, разбойниках). Наместники и волостели, державшие кормление без боярского суда, а также государевы и боярские тиуны не имели права окончательного суда по этим делам и обязаны были «докладывать» свое решение на утверждение вышестоящего суда (ст. 43). Судебник устанавливал контроль и за кормленщиками с боярским судом со стороны «добрых», «лучших» людей, то есть представителей наиболее зажиточного местного населения (ст. 38).
Система кормлений порождала произвол и злоупотребления местных властей, использовавших пребывание на «кормовых» должностях для личного обогащения. Бояре назначались на 1-2 года, за это время они «обдирали» область, т.к. в их распоряжение поступали средства, которые были собраны в казну сверх необходимых податей. Фактически они занимались бесконтрольными поборами, что заметно ослабляло систему государственной власти и управления.
В.О. Ключевский отмечал: «Изображая положение дел перед реформой местного управления, летописец говорит, что наместники и волостели своими злокозненными делами опустошили много городов и волостей, были для них не пастырями, не учителями, а гонителями и разорителями, что со своей стороны и "мужичье" тех городов и волостей натворило кормленщикам много коварств и даже убийств их людям: как съедет кормленщик с кормления, мужики ищут на нем многими исками, и при этом совершается много "кровопролития и осквернения душам", разумеется от поединков и крестоцелований, так что многие наместники и волостели, проигрывая такие тяжбы, лишались не только нажитых на кормлении животов, но и старых своих наследственных имуществ, вотчин, платя убытки истцов и судебные пени». [Ключевский В.О.: Том 2, С. 488–489. История России, С. 21881–21882].
Поэтому с XV века московские князья стали регламентировать кормления. Размеры кормов определялись в специальных кормленных (выдавались кормленщикам) и уставных (выдавались населению города или уезда) грамотах. Срок пребывания в должности кормленщика ограничивался одним-тремя годами. В конце XV – начале XVI века натуральные корма начинают переводить в денежные, а сбор самих кормов передают выборным от населения. В городах появляются назначаемые князем из поместного служилого дворянства городовые приказчики, оттеснившие наместников-кормленщиков сначала от военно-административного, а затем от земельного, финансового и даже судебного управления.
РАЗДЕЛ 7. Глобальный цикл экономической организации. Стадия становления экономической организации Евроазиатской цивилизации – России XIV–XVI столетия. Хозяйственная система Московской Руси
ОТДЕЛ 16. Фаза становления: процессы и тенденции формирования ресурсных и институциональных основ экономической организации Евроазиатской цивилизации – России XIV–XV столетия
ГЛАВА 65. Развитие сельского хозяйства в XIV–XV столетиях
65.1. Развитие земледелия
В сельском хозяйстве Руси господствовало устойчивое полевое земледелие. На Севере основным земледельческим орудием была деревянная соха с железным наконечником, на юге – плуг и рало. Для рыхления пашни употреблялась деревянная борона. С XIV века, с запозданием против Западной Европы на пару столетий, начинает распространяться трехполье и на просторах Русской долины. С середины XV века в земледелии России вместо переложной и подсечно-огневой системы начинает преобладать паровая система земледелия с трехпольным севооборотом. При ней из трех равных по площади полей одно находилось «под паром», т.е. отдыхало, в него вносился навоз. Земледелец называет «полем», в отличие от других земельных угодий, лишь тот земельный участок, который регулярно (ежегодно) обрабатывается пахотным орудием для посева и выращивания на нем тех или иных хозяйственных растений – зерновых хлебов, овощей, технических культур и т.д. Этим уточняется понятие полевого пашенного земледелия, и проводится различие между полем и подсечным лесным участком, лишь временно используемым под посев зерновых хлебов.
Прогресс земледельческой техники давал больше прибавочного продукта, что служило источником развития городов, усиливало социальное расслоение. Обычное выражение писцовых книг: «пашни столько-то в поле, а в дву потому ж», толкуют обыкновенно в смысле существования трехпольного севооборота. Но в тех же писцовых книгах, – как указывает И. Н. Миклашевский, – упоминается о сенных покосах, о всех трех полях в пашне, которая поросла лесом, так что в этих случаях ни о трехпольной системе полеводства, ни вообще о каком-либо возделывании земли говорить невозможно. Так, например, читаем: «А четвертями того лесу пашни добрые земли 736 чети в поле, а в дву потому ж, лесу пашенного две десятины во все три поля», «и в поляне пашни паханой и на пашню дикого поля 10 чети да логу на сено жать три чети: обоего 13 чети в поле, а в одну потомуж»10
Ю.В. Готье и полагает, что указанный «способ исчисления, подразумевающий всегда существование как бы трех полей, есть только обычный технический прием писца, выражавшего размеры описанных им земель наиболее простыми и всем доступными понятиями» (Готье. Замосковный край в XVII в. С. 443.)
Наряду с пашней паханой или «живущей», регулярно обрабатываемой, и с перелогом, т.е. с запущенной на отдых пашней (иногда поросшей лесом), источники упоминают постоянно и о пашне наезжей, которая иногда достигает значительных размеров. Эти «наезды» обрабатываются случайно, урывками, не подлежат налогам. Н.А. Рожков считает их явлением регрессивным с хозяйственной точки зрения: это земли, прежде обрабатываемые, ныне брошенные; он ссылается на такие выражения, как: «А в пусте сошного письма и с наезжею пашнею», «и те приказные люди те монастырские, деревни многие пахали наездом, и оттого же их села и деревни позапустели».
Уровень развития земледелия в Северо-Восточной Руси в XIV–XV веках, по всем данным, был несравнимо выше, чем в Новгородской земле. Поля в деревнях и селах Северо-Восточной Руси были больше по размеру и лучше по агротехнической обработке. И все же о полях, об основном земельном угодье каждой деревни, в актах XIV–XV веков в Северо-Восточной Руси прямо почти ничего не говорится. В Северо-Восточной Руси старые, регулярно обрабатываемые поля – явление совершенно обычное. Однако таких свидетельств немного, но они есть; число их умножилось бы, если бы судные дела, межевые, деловые грамоты и другие им подобные документы сохранились бы лучше. Указания на поля встречаются лишь по случайному поводу, причем, как правило, не в актах о поземельных сделках, а в иных документах – в судных грамотах или списках, в межевых и отводных грамотах. Например, вырисовывается такая картина трудовой жизни ряда смежных землевладельческих селений в одном из уголков Верейского уезда в середине XV века. Указания на деревни, расположенные в близком соседстве с отводимой межой, связаны с показом земельных угодий селений; среди них поля, ржище (т.е. поле, на котором только что росла и теперь сжата рожь), заполицы, поляны, две пустоши, селище (т.е. место существовавшей деревни и села). Эта картина типична не только для Верейского уезда, но и для других уездов Московского великого княжества в первой половине XV века, такой же она осталась и до конца XV века.



