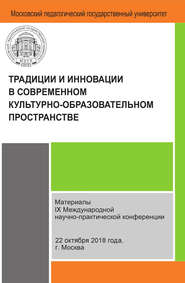 Полная версия
Полная версияТрадиции и инновации в современном культурно-образовательном пространстве
1. Аксаков К.С. Полн. собр. соч. Т. 1. М., 1861.
2. Большая Российская энциклопедия: В 30 т. / Председатель Науч.-ред. совета Ю.С. Осипов; отв. ред. С.Л. Кравец. Т. 11. М.: Большая Российская Энциклопедия, 2008. 767 с.: ил.
3. Зуева Т.В., Кирдан Б.П. Русский фольклор: учебник для высших учебных заведений. М.: Флинта: Наука, 2002. 400 с.
4. Круглов Ю.Г. Русский фольклор: Книга для учителя. М., Издательство «Советский писатель», 2000. 266 с.
5. Литературная энциклопедия Т. 11 / Ред. коллегия: П.И. Лебедев-Полянский И.М. Нусинов; гл. ред. А.В. Луначарский. М.: Художественная литература, 1939. 824 с.: ил.
Романс на русской театральной сцене рубежа XIX–XX веков
Будникова А.А.,
Московский педагогический государственный университет,
научный руководитель кандидат педагогических наук,
доцент Савина Е.Г.
Аннотация: в центре внимания статьи – романс как жанр вокального искусства и его точки соприкосновения с театральным искусством. В работе представлены выдающиеся музыканты и артисты конца XIX – начала XX веков, исполнявшие романсы.
Ключевые слова: романс, театр, вокалист, актер, голос.
Budnikova A.А., Moscow Pedagogical State University, scientific adviser Candidate of pedagogical sciences, associate professor Savina E.G.Romance on the Russian stage of the turn of XIX–XX centuriesAbstract: the focus of the article is romance as a genre of vocal art and its points of contact with the theatrical art. The work presents outstanding musicians and artists of the late XIX – early XX centuries who performed romances.
Keywords: romance, theatre, vocalist, actor, voice.
В конце XIX – начале XX веков значимое место в русской музыкальной культуре занимал романс, представляющий собой камерное вокальное музыкально-поэтическое произведение с инструментальным сопровождением. Жанр романса был настолько привлекательным и для исполнителей, и для слушателей, что с музыкально-концертных площадок распространился в разных формах на театральную сцену.
К сожалению, сейчас далеко не каждый обладатель красивого, тембрально-насыщенного голоса способен театрализовать исполняемое вокальное произведение, точно также как не каждый драматический актёр может позволить себе публично петь. В XIX же веке не существовало строгого разделения на музыкальную и драматическую труппу, поэтому нередко актёрские способности и вокальная одарённость благополучно сочетались и развивались в одном лице. Путь к вершинам искусства непрост. Не у каждого артиста это получалось, поэтому лишь по-настоящему великие таланты возвысились в искусстве, как на Олимпе.
Мы рассмотрим несколько форм существования романса в рамках театральной сцены, распространённых на рубеже XIX–XX веков.
Исполнение романса вокалистом вполне традиционно. Но можно просто исполнить романс, а можно его «прожить». Именно так исполнял романсы обладатель абсолютно уникального тембра, любимец и баловень русской (и не только) публики Федор Иванович Шаляпин. Свою популярность он снискал и как блестящий певец, и как глубоко чувствующий актер, который был абсолютным мастером перевоплощения. Ф.И. Шаляпин проживал каждый романс как драматическую миниатюру, как воображаемое зрелище. По свидетельствам очевидцев, его исполнение имело колоссальную силу воздействия [3].
Романсы с концертной сцены достойно исполняли и драматические артисты. Пример тому – творчество великой актрисы Веры Фёдоровны Комиссаржевской. В юные годы ей пророчили славу певицы, но она выбрала театр. Несмотря на то, что В.Ф. Комиссаржевская была драматической актрисой, она пела романсы и на концертах, и для души. У нее был удивительно теплый, бархатный тембр. От природы – неповторимая искренность, душевная теплота и художественный артистизм, которому нельзя научить. Услышав однажды её пение, С.В. Рахманинов впечатлился и, спустя короткое время, посвятил ей романс на слова А.П. Чехова «Мы отдохнем».
Вообще в драматических спектаклях нередко использовали романс как вставной номер, имеющий непосредственное отношение к драматургическому развитию пьесы. Так, в пьесе А.Н. Островского «Бесприданница» по задумке автора Лариса поёт знаменитый и всеми любимый романс «Не искушай меня». Но на премьере в Александрийском театре 1896 года В.Ф. Комиссаржевская пошла на смелый шаг: она спела другой романс – итальянского композитора Альфонсо Гуэрчиа «Нет, не любил он». Никто такого поворота не ожидал, но актриса попала прямо в цель, и зал "взорвался" аплодисментами. Позже об этом исполнении напишут, что в её интонациях было слышно «и волнение неудовлетворенной страсти, и горький упрек, и безысходная тоска, и ужас перед разлукой с любимым человеком, и любовь – сильная, как смерть» [4].
Композиторы XIX века, писавшие оперы, активно пользовались романсом как музыкальной формой выражения настроений героев своих произведений. Традиция использовать романсы в оперных спектаклях сформировалась ещё в творчестве А. Верстовского и его предшественников. Так, в опере М.И. Глинки «Жизнь за царя» Антонида поёт проникновенный, наполненный искренней печали романс «Не о том молчу, подруженьки». В операх П.И. Чайковского также можно услышать лирические романсы в исполнении героинь: обреченно и мрачно звучит романс Полины «Подруги милые», всем известно блестящее исполнение Е. Образцовой романса Графини «Ах, постыл мне этот счёт».
Театр – уникальный вид искусства, где все виды искусства, соединившись, получают свой театральный оттенок. Музыка, танец, пантомима, вокализация, актерская игра – все это смело сочетает в себе театр начала XX века. Зритель хотел не просто красивого пения, он хотел души, слез, любви, истязаний, невероятного перевоплощения простого смертного в героя. Именно этим запросам отвечали романсы несравненного Александра Вертинского – кумира эстрады начала XX века. Неповторимый маэстро, с декадентским голосом ворвался на эстраду и покорил публику с первых концертов. Удивительно, но Александр Николаевич не умел играть на фортепиано и даже не знал нот. За ним записывали композиторы, тем самым родились на свет его неповторимые романсы и песни. Каждый романс А. Вертинского – это небольшой психологический рассказ о внутреннем мире одного человека, о впечатлениях жизни, о маленьких трагедиях и личном счастье. Его «печальные песенки», как он сам их называл, скорее не грустные, а с тонкой иронией. А. Вертинский был «человек-театр» с блестящими актерскими данными. Из своих песен-романсов он делал спектакль, над которым смеялись сквозь слезы. В дуэте с А. Вертинским на его концертах пела романсы и Вера Холодная – актриса, которую он обожал. Одним из самых знаменитых их совместных номеров было «Танго». «Не существует искусства, которое не требовало бы виртуозности, и не существует окончательной меры для полноты этой виртуозности», – говорил К.С. Станиславский. Эти слова справедливо можно отнести к искусству Александра Вертинского [1].
Таким образом, романс является одним из любимых концертно-сценических жанров: романсы с удовольствием включали в концерты профессиональные вокалисты; романсы пели для своих поклонников драматические артисты; романсы звучали в драматических и оперных спектаклях. В романсе заложен большой театральный потенциал, это концентрированный спектакль в миниатюре. Марина Цветаева писала: «Романсы были те же книги, только с нотами. … Только жаль, что такие короткие. Распахнешь – и конец» [5]. Не зря говорят, что романс – это «история жизни в песне».
Список литературы1. Вертинский А. За кулисами. М.: Советский фонд культуры, 1991. 303 с. 2. Ветковская В. Городской романс. М.: Центрполиграф, 2004. 254 с.
3. Дмитриевская Е.Шаляпин в Москве. М.: Московский рабочий, 1986. 240 с.
4. Носова В. Комиссаржевская. М.: Молодая гвардия, 1964. 52 с.
5. Цветаева М. Автобиографическая проза. Том 5. М.: Терра, Книжная лавка – РТР, 1997.
Орден иезуитов:
духовно-исторический контекст возникновения
Гетьман С.С.,
Московский государственный институт
международных отношений (Университет)
Министерства иностранных дел РФ,
научный руководитель кандидат исторических наук,
доцент МГИМО (У) МИД РФ Могилевский Н.А.
Aннотация: работа посвящена анализу становления феномена «Орден иезуитов». Рассмотрены духовные, исторические, политические предпосылки его возникновения; этапы развития и его иерархическая структура.
Ключевые слова: Орден иезуитов, папство, Римская церковь, реформация, духовно-исторический контекст.
Getman S.S., Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, scientific adviser PhD in history, associate professorMGIMO (U) MFA RF Mogilevsky N.A.Jesuit Order: spiritual and historical contextAbstract: the work is devoted to the analysis of the formation of the phenomenon of the Order of the Jesuits. Considered spiritual, historical, political background of its occurrence; stages of development and its hierarchical structure.
Keywords: Jesuit order, papacy, Roman church, reformation, spiritual and historical context.
XV–XVI векa – крайне интересный период в истории Римской церкви, который мы не можем рассматривать в отрыве от истории самого Рима. Вечный город в это время стал центром потребления богатств, поступавших из всей Европы. Такое положение дел очень скоро сделало Рим центром торговли, финансовых и, особенно, спекуляционных операций. Разумеется, все это сказывалось и на деятельности Католической церкви, к которой отношение было двойственное: С одной стороны, алчность и жадность представителей духовенства, как и стремление Церкви к «духовному порабощению людей» [3] вызывало крайнее возмущение буржуазии. С другой стороны, растущее влияние Папы давало возможность подвластным Папе землям обогащаться за счет других государств. Иными словами, деятельность Церкви расколола общество на два лагеря: тех, кто защищал и оправдывал ее деяния, и тех, кто заявлял о необходимости чистки этой организации. И если в Италии буржуазия сначала все-таки покорилась Папству, то в Германии к Ватикану было крайне враждебное отношение, обусловленное тем фактом, что «папство выкачивало огромные суммы денег» [3] подвластных ему земель. И именно в Германии началось движение за очищение Церкви.
Однако Римская церковь, возглавляемая тогда Львом X, представителем дома Медичи, не придала большого значения этим тревожным сигналам. Катализатором общественного возмущения стали индульгенции Папы Римского об отпущении грехов. Именно в этот 1517 год и появились знаменитые тезисы Мартина Лютера. Церковь, к этому времени уже подорвавшая свою репутацию, подошла к критической точке, когда в ней разочаровались верующие, начав искать новые пути взаимоотношений между Человеком и Богом, в которые бы не вмешивалось папство.
Кроме того, нельзя не подчеркнуть и роль угнетенного положения немецкого крестьянина в развернувшемся движении против Церкви. В последовавшей Крестьянской войне выдвигались не только религиозные требования (главное – свободное вероисповедание), но и требование уничтожения крепостных отношений, отмены дворянских привилегий, уменьшения барщины и оброка. Таким образом, Лютер, ставший своего рода «национальным героем», выражавший интересы разных сословий, желавших свергнуть «тяжелое иго папства», возможно сам того не понимая, дал ход не только религиозным изменениям, но и социальным, политическим, экономическим.
Интересно, что Лютер не только ратовал за санацию церковной организации, но и начал по-своему толковать сами принципы христианства. Рассмотрим трактовку Лютером такой категории, как благодать. Католическая церковь настаивала на полном повиновении ей, послушании, и, следовательно, на необходимости присутствия некого связного между Богом и верующим. Таковым связным становился священник. Подобная концепция оправдывала существование самой Церкви, более того – необходимость присутствия этой организации в жизни прихожан. Лютеране же рассуждали иначе: человек должен не просто повиноваться благодати, а приобщаться к ней, творить ее, создавать, для чего совершенно не нужен священник – верующий сам может о себе позаботиться.
Папство предпринимало попытки остановить распространение «ереси». Одной из попыток стал Вормсский рейхстаг 1521 года, после которого Лютер и подвергся опале. Однако опала лидера Реформации не могла решить саму проблему и ликвидировать социально-духовный конфликт. Результатом этого в Германии стал Шпейерский сейм 1526 года, на котором было принято следующее решение: отныне в Германии Папа переставал быть авторитетом в делах религии, и все решения должны были приниматься князьями. Это был сильный удар по Ватикану, т.к. германские княжества становились первой страной в Европе, которая официально отреклась от власти Святого престола. Кроме того, потеря Германии сказалась на материальном благополучии Римской церкви, являвшейся на тот момент крупным феодалом, которому выплачивали оброк в виде десятины. Папский престол начал терять влияние.
С волнений в Германии началась цепная реакция. При этом речь в данном случае идет не только о религиозных изменениях, так как Реформация – это изменения и в политической, и экономической сферах (как известно, Ф. Энгельс назвал Реформацию «первым актом буржуазной революции» [3]).
Реформация, изначально ставившая целью очищение Церкви, изменила расстановку сил во власти всей Европы. Именно это движение стало знаменем республиканских революций в Голландии, Шотландии. Более того, Голландия благодаря Реформации освободилась от власти католической Испании, что существенно перекроило карту Европы. Реформация перекинулась на скандинавские земли и Польшу. В этом был и политический смысл: если в более сильных европейских государствах папству приходилось считаться со светской властью, то в этих странах зачастую первая доминировала над светской, что привело даже в высших политических кругах к отторжению власти Католической Церкви. В данных государствах установился принцип – «чья власть – того и вера» [3], другими словами – князь сам решал к какому ответвлению христианства принадлежать.
Католическая Церковь была озлоблена и жаждала мести за потерянное влияние. Начались гонения на протестантов, которые к тому же не всегда поддерживались духовенством, особенно, низшим, сочувствующим протестантам. Известно немало фактов того, как священники пускали к причастию еретиков, нарушая официальный запрет. На этой почве нередко возникали споры между самими епископами.
К тому же, обвинения в ереси стали рычагом политического влияния. Угроза подобного обвинения – мощный действенный способ запугивания, который использовали политические деятели, чтобы устранить своих врагов, а обыкновенные люди, чтобы отомстить своим личным обидчикам.
Сама Римская церковь стремилась восстановить свое былое могущество. С.Г. Лозинский в работе «История папства» пишет: «В недрах Реформации, являвшейся своеобразной формой революционного выступления, в силу диалектического развития исторического процесса зрела контрреволюция, или, употребляя церковный термин, контрреформация» [3]. Действительно, с мнением исследователя сложно не согласиться. Слишком большие амбиции были у Католической Церкви и слишком много потеряла она из-за Реформации. Более того, Крестьянская война 1525 года во многом была на руку Католической Церкви: крупные феодалы, буржуазия испугались масштабов недовольства. И если раньше многие из представителей господствующего класса в тайне недолюбливали Папу с его вездесущим влиянием, то теперь они готовы были пойти на сделку с Церковью ради сохранения своих позиций.
В сложившейся ситуации необходимо было найти преданного человека, который смог бы возглавить Контрреформацию, защитить Церковь от ересей. Этим человеком стал дон-Инниго Лопес де-Рекальде, которого более привычно называть Игнатием Лойолой. Он представитель древней аристократической испанской династии и в юности вел праздную жизнь, но роковая битва с французами сыграла решающую роль в его судьбе. После поражения его войска и тяжелого ранения он решил наказать себя: не выходил в свет, подвергал себя всяческим лишениям. Став ярым католиком, он решил, что его миссия – спасти Церковь. Именно Игнатий Лойола возглавил так называемый Орден иезуитов, который был утвержден в 1540 буллой Павла Третьего «Regiminis militantis ecclesiae».
Этапы развития Ордена иезуитов. Орден был организован в 1540 году. При этом необходимо понимать: ослабленная постоянными нападками со стороны крупных феодалов, монархов и борьбой с ересью, Католической Церкви необходим был подотчетный орган, который бы беспрекословно служил интересам Ватикана. Орден появился, прежде всего, как оружие Церкви в борьбе с Реформацией и как инструмент Церкви в распространении ее власти.
Интересно, что Орден возник не в Италии, вотчине Папы Римского, а в Испании, стране, с которой обычно ассоциируются жестокие гонения на протестантов и инквизиция.
Изначально общество называлось Братством Иисуса, а число членов Ордена не должно было превышать 60 человек, хотя уже в 1543 году численность Общества увеличилась, так как для миссии, наложенной на его членов, шестидесяти человек было недостаточно.
Общество, вопреки традициям, к трем обетам – целомудрия, бедности и послушания – добавило еще один: «посвятить свою жизнь неустанному служению Христу и папам, бороться под знаменем креста, не признавать никакой другой власти, кроме власти Господа и римского первосвященника, наместника Господня на земле…» [2]. Таким образом, в критическое время, когда Реформация перекинулась уже на вотчину папства – Италию, у Папы появилась поддержка в лице Братства, состоявшего из малого числа людей, но людей крайне образованных, даровитых и преданных. И Орден соединил в себе «страстное усердие к служению римской церкви с непримиримою ненавистью к ереси» [2].
Интересно, что иезуиты не считали свой Орден монашеским: они не носили монашеской одежды, не имели хора, и, главное, у них не было понятия монастыря как общежития. Подобная позиция Общества Иисуса не могла не раздражать другие Ордены. Например, бенедиктинцы очень ревниво относились к иезуитам, считая, что те отбирают у Ордена св. Бенедикта хлеб. В Испании Орден вел жесткую борьбу со своими главными противниками доминиканцами.
В принципе, нельзя не отметить парадоксальность взаимоотношений иезуитов и духовенства: «Иезуиты считали себя гораздо выше остального духовенства… Иезуиты были убеждены в этом [в своей исключительности по сравнению с другими служителями Церкви – прим. авт.] и считали всех других священников, особенно монахов, лишними конкурентами; поэтому они решились вступить с ними в борьбу, чтобы избавится от них» [1]. Другими словами, вскоре после своего появления иезуиты сами возвели себя в особый ранг: они не относили себя к духовенству. Скорее, видели себя стоящими над всей системой Католической Церкви, включая и духовенство, и другие монашеские ордены. Например, известна неприязнь иезуитов к доминиканцам, которые долгое время занимали сильную позицию в Католической Церкви и лишь Ордену Иисуса удалось их потеснить.
Иерархия Ордена строилась следующим образом. Во главе Ордена стоял Генерал, имевший обширные права: он мог отменять по своему усмотрению наказания, наложенные на членов общества, отпускал такие страшные грехи, как убийство, но только в том случае, если это преступление не было придано огласке. В уставе ордена генерал приравнивается к представителю Христа. В булле Павла Третьего «Injunctum nobis» прописано: «Лойола и все другие будущие генералы ордена имеют право с согласия важнейших членов общества, но, впрочем, совершенно произвольно изменять, отменять, дополнять и вновь издавать орденские уставы. Смотря по надобности или по выгоде; измененные или вновь учрежденные положения будут иметь совершенно одинаковую силу с прежними и должны считаться вполне законными, хотя бы даже римский престол не знал о их существовании» [2]. Именно вторая часть данного положения парадоксальна, т.к. папы своими руками дали иезуитам огромную власть и частичную независимость от себя, а именно, члены Общества Иисуса даже не платили податей ни Церкви, ни светской власти.
Генерал, помимо всего, являлся своеобразным администратором Ордена. Именно он истолковывал привилегии, данные Ордену, назначал на должности и освобождал от обязанностей, он имел право трактовать устав и менять его положения, от решения генерала зависело, будет ли кто-то принят в Орден или нет. Мало того, именно от благоговения главы Ордена зависело, насколько большие полномочия будут даны его подчиненным. Одним из немногих ограничений для генерала было то, что при праве открывать новые учреждения, он не мог закрывать старые. Также генерал Ордена мог управлять имуществом организации, но он не мог его отчуждать. На смертном одре генерал в праве назвать человека, который будет управлять детищем Лойолы вплоть до избрания нового генерала.
Если говорить об административных делах, то в управлении Орденом генералу помогали «мониторы» и «ассистенты». Монитор, исходя из названия, должен был следить за тем, как генерал исполняет свои обязанности. Ассистенты (обычно их было четверо) составляли совет генерала, который собирался, как правило, в случае его смерти или смещения. Генерал не мог сместить своих ассистентов. Также он не был свободен в выборе своего духовника, которым обычно становился монитор. Генерал был ограничен и в своих передвижениях, поэтому мог ночевать только в Риме и нигде больше.
Интересно, что случаев смещения главы ордена практически не было в истории. И, тем не менее, существовал ряд причин, по которым генерал мог быть незамедлительно смещен. В этот список входило, в первую очередь, уличение в ереси, а также использование полномочий в своих личных целях, присвоение имущества Ордена, нарушение обета целомудрия, нанесение кому-нибудь увечий. В то же время генерал не мог быть освобожден с должности по собственному желанию или принять другую должность.
Несмотря на все ограничения, власть генерала постепенно становилась безграничной, деспотической. Подтверждение этому можно найти даже в письмах иезуитов, своеобразных жалобах, направляемых Папе Римскому. Одно из таких писем дошло и до наших дней. Оно было адресовано Папе Клименту Восьмому. В письме иезуиты жаловались, что «генерал возомнил себя абсолютным властелином и совершенно произвольно управляет орденом: он не признает никаких законов, казнит и милует, возвеличивает и унижает по собственному благоусмотрению, считая себя самим Богом, недоступным никаким ошибкам и свободным от всяких осуждений» [2].
Структура ордена. Изначально в Ордене было два класса: новицы (то есть новички, те, кто только готовился войти в ряды Ордена и принести клятву) и профессора (те, кто принес уже четыре обета). При этом «дееспособными» были только профессора, которых было мало для воплощения в жизнь планов Ордена. Чтобы пополнить ряды Ордена, был создан еще один класс – coadjutorеs («помощники»). С одной стороны, эти люди не имели прав профессоров, то есть не могли вмешиваться в процесс управления, с другой, они могли приносить большую пользу.
Таким образом, Орден иезуитов имел следующую структуру. Низшую ступень занимали новицы, занимавшиеся популяризацией Ордена. Новицами обычно являлись талантливые юноши, проявившие успехи в учении. За новицами присматривали попечители (magister novitiorum) в течение 20 дней. Далее новицев могли произвести в действительных новицев. Обычно в Орден вступали в возрасте четырнадцати лет (хотя надо сказать, генерал имел право принимать в Орден и более юных молодых людей). Именно с того момента начинался период самопроверки, самоотречения. Если юноши проходили испытания, то в будущем их могли назначить профессорами, провинциалами или ректорами, духовниками и так далее.
Все выше перечисленные лица принадлежат к классу coadjutorеs formati. Помимо них, были еще и coadjutores saceulares – это члены Ордена, которые не посвящались в духовный сан. Этот сан, по сути, давался им как награда за общественную деятельность, а люди, его имевшие, не имели обязанностей. Иногда по собственному желанию они могли популяризировать Орден, помогать ему в распространении информации и так далее.
В целом, Орден имел официальных членов и неофициальных сторонников. Ко вторым обычно относились люди, занимавшие высокие государственные посты и имевшие власть, т.к. Орден всячески стремился к увеличению своего влияния в светской сфере. Например, таким неофициальным членом был Франциск Борджиа – вице-король Каталонии. По свидетельствам, оставленным иезуитами, к числу Ордена также относились: король Сигизмунд Третий (король Швеции, король польский и великий князь литовский), императоры Священной Римской империи Фердинанд Второй и Фердинанд Третий.



