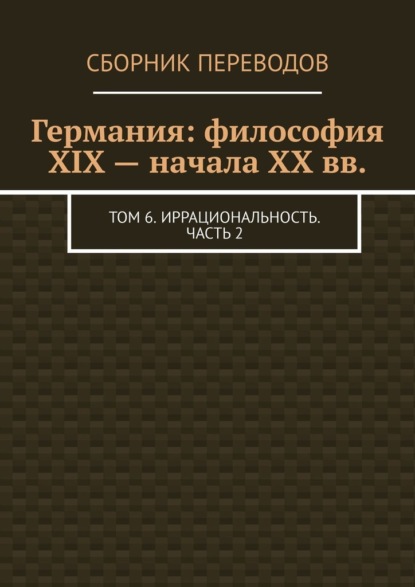
Полная версия:
Германия: философия XIX – начала XX вв. Том 6. Иррациональность. Часть 2
Джеймс не испытывает ужаса перед «Абсолютом». У него есть обнадеживающее преимущество – он позволяет нам «моральный отпуск». И если бы такие кандидаты на звание высшего родового понятия, как «нечто», «субстанция», «бытие» или «мыслимое», представляющие собой завершение логической пирамиды, смогли доказать свою безусловную полезность для организации жизни, то, возможно, не логик и эпистемолог, но уж точно психолог религии Джеймс заключил бы свой договор с «Абсолютом», с «единством мира», хотя внутренне он плюралист. Ибо генетическая теория истины не закрыта для осознания того, что склонность и стремление к единству, «трансцендентальному единству апперцепции», как называет его Кант, глубоко укоренены в человеческой природе. Вопрос лишь в том, укоренилось ли оно, как это представляется трем великим учителям единства – Пармениду, Спинозе и Гегелю. Прагматизм не отрицает «родового единства» объектов между собой. Поэтому мне непонятно, почему Джемс («The Philosophical Review», January 1908, vol. XVII, p. 17) сделал следующую уступку солипсизму в своем эссе «The pragmatist account of trutz and its misunderstanders»: «It must be confessed that pragmatism, worked in this humanstic way, is compatible with solipsism.» [Следует признать, что прагматизм, работающий в этом гуманистическом ключе, совместим с солипсизмом. – wp] Здесь я должен защищать Джемса против Джемса. Насколько точна его следующая характеристика прагматизма: «It joins friendly hands with the agnostic part of Kantism, with contemporary agnosticism, and with idealism generally» [Он пожимает руку агностической части кантианства, современному агностицизму, а также идеализму в целом. – wp], так же решительно прагматизм должен защищать себя от эпистемологического слияния или даже слияния с солипсизмом. Здесь по-прежнему применимы слова Шопенгауэра: солипсизм нельзя опровергнуть. Но лечение холодной водой может пойти ему на пользу. Сам Джемс говорит (Прагматизм, стр. 87): Самая важная связь, существующая между вещами, – это, говоря прагматическим языком, их родовое единство. Вещи объединены в роды, в каждом роду есть множество образцов, и то, что можно вывести из рода для одного образца, верно и для всех остальных образцов этого рода. Мы можем легко представить себе, что каждый факт в мире был бы единственным, то есть отличался бы от всех других фактов и был бы уникальным в своем роде. В таком мире, где нет ничего, кроме единичностей, наша логика была бы бесполезна, поскольку деятельность логики состоит в том, чтобы на основе единичного предсказывать то, что верно для вида. Если бы в мире не было двух одинаковых вещей, мы не смогли бы выводить будущий опыт из нашего прошлого». Таким образом, Джемс ставит солипсизм, особенно как прагматик, на место и преодолевает его научным путем. Солипсизм означает разрушение всей науки и ее инструмента, логики, в то время как прагматизм означает обратное: построение науки на основе биологически обоснованной логики.
Возможно, Джемс заложил бы этот биологический фундамент еще глубже и закрепил бы его прочнее, если бы был знаком с работой Ричарда Семона «Мнема» (второе издание 1908 года). Семон развил известную теорию Геринга об инстинктах как «опыте вида» в масштабную систему, которую я рекомендую вниманию прагматиков, а также недавно опубликованную работу Элиаса фон Кайона «Орлабиринт как орган математического синнестетика для пространства и времени» (Берлин, 1908). Экспериментальные исследования фон Циона направлены против всякого нативизма и априоризма кантовской теории пространства-времени. Призыв «назад к Лейбницу», который неоднократно звучал в «Sinn des Daseins» и в ряде других работ, фон Кайон находит более понятным и более приемлемым для естествоиспытателя, чем «назад к Канту». «Лейбниц, – пишет фон Кайон (стр. XV, Предисловие), – ближе к духу эпохи энтропии Клаузиуса, клеточной теории Шванна и бактериологии Пастера и Коха, чем Кант». Очень понятно. Сегодня мы мыслим более биологично. Это предполагает телеологический подход. А поскольку Лейбниц, как я показал в своей работе «Лейбниц и Спиноза» (Берлин, 1890), основывал свою теорию монад на открытиях микроорганизмов Шваммердама, Лиувенхока и Мальпиги, даже если он ее и не построил, то уж точно проверил, энергетизм и витализм Лейбница нам ближе, чем мыслитель более геометричный Спиноза и более критический Кант.
Прагматизм принадлежит, намеренно или ненамеренно, к той группе современной философии, которая вместе с ЛЕЙБНИЗОМ стремится вернуться к аристотелевскому понятию энтелехии. Натурфилософы вроде Оствальда, биологи вроде Рейнке, эпистемологи вроде Авенариуса и Маха – все они телеологичны, эволюционистски и энергетически ориентированы. То, что их разделяет, – это нюансы; то, что их объединяет, – это основной тон, основной философский настрой того гераклитизма, который достиг своего наивысшего триумфа в эволюционизме Герберта Спенсера. Все течет, все находится в процессе становления, в том числе и истина. Для рационализма, справедливо отмечает Джемс (Прагматизм, стр. 164), реальность является законченной и полной от вечности, тогда как для прагматизма она все еще находится в процессе становления, и ее формирование лишь частично ожидается из будущего. Это не говорит против старого опыта, который Джемс уважает в высшей степени. После Авенариуса наивный реализм, образ реальности эпистемологически среднего человека, снова вступил в свои права. То, что Авенариус сделал для спасения чести наивного реализма, генетическая теория истины Джеймса и Шиллера хочет сделать для «здравого смысла» в целом. Старая английская теория здравого смысла, тень communes notitiae Стоа, возрождается в прагматизме. Подобно тому, как пролегомены, ортос логос [правильный разум – wp] и конай энноя были когда-то критериями истины для Стои, против которых критическая письменность Плутарха вместе с армией *пирроновского скептицизма взяла оружие, так и Джемс заявляет: наши фундаментальные методы мышления являются открытиями наших древнейших предков и смогли пережить весь последующий опыт (стр. 107). Вот почему он, вместе с Махом, Оствальдом и Дюгемом (а почему не с Авенариусом?), призывает вернуться к здравому смыслу. Критерием генетической теории истины является, с одной стороны, плодовитость, с другой – ее проверяемость через новый опыт. Согласно Джемсу (p. 125f), истинные идеи – это те, которые мы приобретаем, которые мы можем утверждать, воплощать в жизнь и проверять. Ложные идеи – это те, для которых все это невозможно.
Истинное – это не что иное, как то, что ведет нас вперед по пути мысли. Мы живем вперед, говорит Джемс вместе с датским мыслителем, но понимаем назад. Сумма конденсированного родового опыта наших предков – Геринг называет это «инстинктом», Семон – «мнемой» – формирует и оформляет убеждения, которые определяют наши действия. Истина не существует, «она действительна, она утверждает себя» (стр. 143), и поэтому Джемс сводит свои генетические теории истины к следующим двум предложениям (стр. 144):
1. истина – это система пропозиций, имеющих безусловное право быть признанными в качестве действительных.
2. истина – это название для всех суждений, которые мы считаем необходимым делать в силу своего рода императивного долга.
Если мы добавим к этому, что Шиллер определяет: «Истинно» то, что «работает», а Девэй утверждает: истинно то, что приносит «удовлетворение», то мы установим основные положения генетической теории истины прагматизма. (Кстати, ДЭВЕЙ протестует против интерпретации «Истина – это то, что дает удовлетворение» (The Journal of Philosophy, февраль 1908, стр. 94). Существует ли конечная точка истины? Является ли понятие истины в прагматизме, рассматриваемое в обратном направлении, регрессом, рассматриваемое в прямом направлении, прогрессом в бесконечности, как понятие цели и идея развития у Аристотеля? Вовсе нет! Как для Спенсера однажды будет достигнуто абсолютное состояние равновесия Вселенной, а для Клавзия энтропия мира приблизится к максимуму, так и для Джемса существует абсолютная точка покоя в далеком будущем, в конце дней, в намеке на эпистемологическую эсхатологию [учение о надежде на совершенство – wp] и апокалипсис – логическую нирвану. «Абсолютная истина в том смысле, что никакой будущий опыт не может ее изменить, это идеальная точка, к которой однажды сойдутся все наши нынешние истины» (стр. 141). И таким образом прагматик Джемс в своей логике и эпистемологии ведет к мессианству и пророчеству в той же мере, что и в своей «воле к вере». Абсолют, который «трансценденталисты» проецируют назад, отбрасывают в далекое прошлое или даже увековечивают в платоновском царстве идей, Джемс из прагматических соображений, из телеологических побуждений хочет спроецировать вперед, в самое отдаленное будущее, как далеко идущий идеал «мелиористического» [мироулучшающего – wp] отношения к жизни и образу жизни.
Для прагматика влияние на образ жизни является критерием жизнеспособности истины. В борьбе за существование идей Джемс применяет формулу борьбы Дарвина и теорию отбора Спенсера. Философские истины также участвуют в борьбе не на жизнь, а на смерть. Если гипотеза оказывается энергичной, живой, стойкой, значит, она доказала свое право на существование с помощью этой селективной эффективности; если нет, то это мертвая «гипотеза», которую выбрасывают на свалку. Прагматизм добавляет к этому метафизический докторский вопрос о том, имеет ли мир реальность только в головах людей, то есть имманентно, или также вне их голов, то есть экстраментально. От решения этой проблемы не зависит образ жизни человека – в оркус [царство мертвых – wp] с этой мертвой гипотезой! Конечно, Джемс может удержаться даже от того, чтобы рискнуть онтологической гипотезой, ноэтическим [эпистемологическим – wp] плюрализмом, которому он придает большую вероятность (Прагматизм, стр. 102f), но он готов отправить и ее в мертвое царство, как только она окажется неэффективной.
Для Джеймса научная гипотеза, особенно философская, жива только тогда, когда она имеет эвристическую ценность, открывает перспективы, расширяет горизонты и, таким образом, обещает что-то в будущем. Истина – это телеологический процесс адаптации. Прошлое имеет ценность лишь постольку, поскольку оно содержит указатели на будущее. Вся логика имеет смысл только как целесообразная реакция на жизнь, так же как вся религия имеет свое глубочайшее основание в том, что мы реагируем на жизнь в целом нашими чувствами – в этом Джемс следует по пути Шлейермахера, как показал Воббермин. Поэтому интеллект – самое подходящее оружие, которое человек выковал для себя в борьбе с окружающей средой, потому что с помощью интеллекта и его органа – логики – человек способен наиболее адекватно реагировать на разрушительные воздействия внешнего мира и наиболее экономно выявлять благоприятные из них. В конце концов, логика – это продукт отбора – отбора наиболее удачного оружия, которое человек выковал для себя в борьбе за самосохранение и сохранение вида. Поэтому не существует вневременных или вечных истин, а есть только относительные, действенные, телеологически обоснованные истины для времени и для человека. Ибо познание – это, говоря словами Маха («Erkenntnis und Irrtum», 1907), приспособление мыслей к фактам, или просто приспособление мыслей друг к другу. А Авенариус дает следующее определение: Познание – это все, что способно вызвать жизненное различие. Гуманизм» Ф. К. С. Шиллера («Личный идеализм», Лондон, 1902, с. 60) говорит совсем другое: Мир по своей природе является hyle [субстанцией – wp], а значит, тем, что мы из него делаем. Бесполезно определять его тем, чем он был с самого начала, или тем, чем он является в отрыве от нас; он есть то, что мы из него делаем. Ибо мир пластичен. Шиллер прекрасно понимает, что это возвращает нас к «Протагору». В своей последней книге («Исследования по гуманизму», 1907) он объявляет теорему гомо-менсуры Протагора воплощением прагматической доктрины истины. В защиту Протагора, что, кстати, уже было сделано Эрнстом Лаасом в его работе Шиллера, чье глубокое содержание долгое время оставалось неоцененным, он сравнивает Протагора с Паулюсом.
С этого момента начинается критика. Нежелание объединять прагматизм с позитивизмом, релятивизмом, психологизмом и феноменализмом ему не помогает. Все серьезные критики (Лаланд, Лавджой, Кальдерони, Мактаггарт) выявили это согласие. Конечно, существуют тонкие демаркационные линии, отделяющие прагматизм от позитивизма, как это сделал Уильям Джеймс в январском номере американского журнала «The Philosophical Review» за 1908 год (стр. 2). Но то, что отделяет прагматизм от позитивизма и психологизма, – это окраска, то, что их объединяет, – это тенденция.
Прагматизм суммирует все те тенденции нашего лихорадочно возбужденного философского времени, которые под именами натурфилософии, энергетизма, психологизма, позитивизма, феноменализма, фризовского эмпиризма и релятивизма ведут общую борьбу против вещи-в-себе, против всякой метафизики: Натурфилософия, энергетика, психологизм, позитивизм, феноменализм, фризский эмпиризм, релятивизм, которые ведут общую борьбу против вещи-в-себе, против всей метафизики, против трансценденции, идеализма, короче говоря, против того платонизирующего кантианства, которое наиболее последовательно представлено и энергично отстаивается Марбургской школой (Коген, Наторп). И снова, перефразируя Джемса, «нежные» сталкиваются с «грубозернистыми», «однажды рожденные» с «дважды рожденными», как радикально обозначил эти два типа Нейман, с элементарной силой. Как рационалисты и иррационалисты, классики и романтики, рациональные мыслители и эмоциональные мыслители, логики и мистики стоят вооруженные до зубов против друг друга в каждом жанре мыслителя, так и горячо эмоциональная философия поднимается под древним, но свежепозолоченным щитом «прагматизма», которая когда-то была дома в Англии, затем в Германии (Гаман, Якоби) и которая теперь представлена во Франции Риботом, а в Австрии Генрихом Гомперцем, снова поднимает голову против старой философии разума рационалистов, логиков и идеалистов. Вечный [вечный – wp] процесс чувства против понимания, который в конечном счете является лишь неизбежным отражением ментального дублирования чувства (или воли) и понимания, с которым все люди вынуждены бороться внутри себя, снова должен сразиться на форуме XX века.
Прагматизм не прощает себе ничего, когда открыто признает, что он не является ни новым именем, ни новым методом мышления, но по существу и прежде всего дальнейшим развитием той вековой антиметафизической и антирационалистической тенденции в рамках нашего биологически заинтересованного века, которая началась с Протагора и достигла своей кульминации у Юма. И поскольку мы живем сейчас в эпоху попыток диалектической гальванизации – неокантианства, неофихтеанства, неошеллингианства, неогегельянства – я бы счел термин «новогумизм» более подходящим, чем древнее название «прагматизм», в качестве обобщающего общую тенденцию всех этих философий. И поскольку сам Джемс в своем посвящении Миллю указывает, насколько его мышление близко к мышлению Милля, он не мог не понимать, что на самом деле это Юм и всегда Юм, который говорит от прагматизма, тем более что сам Милль – это только Юм, продуманный до конца и отлитый в параграфы индуктивной логики.
В течение многих лет я отстаивал тезис с некоторыми из моих студентов: Кант не опроверг HUME. В своей книге «Социальный оптимизм» (Jena 1905) я доказываю, что HUME – не скептик, а глава позитивизма, и что Кант не опроверг его ни в одном пункте. Процесс еще не закончен. Документы свернуты. Давайте приготовимся к новой битве (стр. 154).
Подобное заявление партии Юма против партии Канта теперь можно найти в «Прагматизме» Уильяма Джеймса. Мольба также в том менее приятном вторичном значении этого слова, которое не исключает, а скорее включает риторическую напыщенность и пропагандистское насилие. Как и положено эмоциональному философу – вспоминаются Гаманн или Якоби – преобладает темперамент, но приправленный такой счастливой дозой юмора, что прагматизм в изложении Джемса должен иметь искрящийся, бодрящий, зажигающий и вдохновляющий, т.е. пропагандистский эффект. Характер изложения – скорее позднекиническо-стоическая диатриба, светская проповедь в стиле Эпиктета, Марка Ореля, Эмерсона, Хилти, без страстного пафоса Карлайла; но именно в этом личном прикосновении к специфически джеймсовскому прагматизму и заключается его «сила действовать».
Джеймс настолько хорошо знаком с историей человеческой мысли, что от его внимания, конечно, не ускользнуло, что прагматическая формула «power to work», как и ее более ранняя разновидность «will to believe», является лишь тенью формулы, которую Гегель называл «will to think», Шопенгауэр – «will to live», а Ницше – «will to power». В частности, «воля к власти» была в крови английской мысли со времен Фрэнсиса Бэкона. Его «tantum enim possumus quantum scimus» [Мы можем сделать столько, сколько знаем – wp] можно с уверенностью поставить на вершину «прагматизма» Джемса. Воля к власти, как она проявляется в теоретиках закона силы у софистов (особенно у Калликла в платоновском «„Горгии“», который, вероятно, послужил образцом для «Übermensch» Ницше), у эпикурейцев, у Гоббса и Спинозы, – это также последнее слово в примате практического разума, провозглашенного генетической теорией истины. И в этом Джемс остается верен старой английской традиции, связывая примат практического разума с номинализмом и утилитаризмом. Задолго до Шопенгауэра, Спенсера и Джемса номиналист Дунс Скот дословно отстаивал этот тезис: воля – господин и правитель, интеллект – слуга (Voluntas imperans intellectui est causa superior respectu actus ejus, Opera ed. Ven. 1597 fol. 165 a). А Уильям Оккама слепо следует учению о примате воли. Таким образом, три основные тенденции английской мысли с XIII века сходятся в прагматизме Пирса, Дьюи, Джемса и Шиллера: эпистемологический номинализм ведет через Локка, Беркли и Хьюма по прямой линии к Миллю и Джемсу. То, что там называлось номинализмом, для Локка означало эмпиризм, культ фактов, фетишизм «материи факта». То, что определяло примат воли над интеллектом у Дунса, содержится в качестве мотива мысли в «Левиафане» Хоббса как монархический центр воли, как сакральная государственная власть, как основной инстинкт самосохранения, который мы вновь встречаем как suum esse conservare у Спинозы, следующего за Гоббсом и Стоа. Этот примат воли, требуемый «Критикой практического разума» Канта, резко подчеркнутый «бытие вытекает из делания» Фихте, наконец, и в особенности поставленный в центр философских дискуссий субстанциализацией воли у Шёпенгауэра, получает следующий поворот у Джемса. Вместо слепого Хёдура, тупой воли к миру в творчестве Шопенгауэра, Джемс отдает первенство чувству, тому «моральному чувству», систему которого Адам Смит разработал вместе со своим закадычным другом Юмом, но в связи с английской философией чувства XVIII века. У Джемса, однако, это чувство получает биологическое обоснование, которого в принципе уже требовал Юм, не имея, конечно, возможности его реализовать, поскольку состояние биологии при жизни Юма не позволяло этого сделать. Только со времен Спенсера и новой теории наследственности, будь то в версии Спенсера или Вейсманна, мы смогли обеспечить биологическое основание в том виде, в котором его когда-то предполагал Хьюм, и прагматизм Джемса осуществляет этот акт мышления. Наконец, с XIII века английской мысли была присуща третья тенденция, которая в полной мере и в чистом виде достигает кульминации только в прагматизме: утилитаризм. Роджер Бэкон заложил здесь основы, как это делали софисты и гедонисты в античности. Разница лишь в том, что древние утилитаристы провозглашали мораль последствий, тогда как сегодня прагматики требуют логики последствий. Истина для прагматиков (особенно для Шиллера) – это слово, такое же, как добро или красота. Науки культивируются, а истины провозглашаются за их полезность – такова квинтэссенция прагматизма. Этой утилитарной «доктрине науки» и ее обоснованию мы обязаны Роджеру Бэкону из современников. Как и Джемс, Роджер Бэкон, как и его более поздний тезка Френсис Бэкон, требовал прежде всего «плодов». В Opus majus (I, 55) Бэкон говорит: «Аристотель и другие посадили дерево науки, но оно еще не проросло всеми своими ветвями и не принесло всех своих плодов». Этих «плодов» он ожидает от «эксперимента». Роджер Бэкон буквально заявляет (Сочинения II, с. 167): Есть два способа познания: аргумент и эксперимент. Первый делает выводы из разума и заставляет нас согласиться с выводами, чтобы разум был удовлетворен в восприятии истины. Это происходит только тогда, когда истина подтверждается опытом. Таким образом, естественная наука должна опираться на опыт; без него ничего нельзя знать с уверенностью. Эти слова с таким же успехом можно было бы найти в «прагматизме» радикального эмпирика Джеймса, как и у Роджера Бэкона.
Разве все эти исторические свидетельства призваны принизить прагматизм, свести к минимуму, а то и вовсе опровергнуть его претензии на оригинальность или обвинить в неуклюжем эклектизме? Является ли прагматизм, как считают его противники, просто свалкой старых эмпирических обломков и сенсуалистических обломков? Или даже конгломерат изношенного тряпья утилитарных теорий и потертых, вышедших из употребления монет из диалектической коллекции курьезов? Ни в коем случае. Когда я раскрываю предшественников, родственные души и современных современников прагматизма и обнажаю корни этого мировоззрения в прошлом и настоящем, я делаю это не для того, чтобы принизить или даже пренебречь прагматизмом, а лишь для того, чтобы объяснить его. Он является последним отростком великой тенденции человеческой мысли, которая началась с Протагора и нашла стократное представление и защиту в номиналистах всех степеней и оттенков, всех зон и времен, начиная с киников, киренаиков и стоиков, эпикурейцев и скептиков. Я вижу так же мало эклектики в прагматизме, как я способен увидеть эклектику у Лейбница, следуя примеру Дюринга, например. Я не хочу ни опровергать, ни защищать прагматизм – я хочу лишь объяснить его, выведя из его исторических условий и предпосылок. Мне кажется, что это доказательство должно не только не повредить прагматизму, но скорее способствовать его признанию в качестве обоснованного философского течения наших дней. Насколько велика и глубока должна быть общая тенденция в человеческой природе, представленная прагматизмом в рамках нашего современного астрофизического мировоззрения и на основе ставшего доминирующим биологического метода, если эта «новейшая» школа мысли на протяжении 2000 лет снова и снова находит горячих сторонников и восторженную поддержку, даже если на самом деле она стремится лишь выполнить то, чего уже требовал Протагор.
Прагматизм, безусловно, эпистемологически является номинализмом, психологически – волюнтаризмом, логически – энергетизмом (сила к действию), метафизически – агностицизмом, этически – мелиоризмом на основе утилитаризма Бентама-Милля. Но эти элементы мысли не механически, не обработаны, не склеены, а органически соединены, внутренне связаны, даже сплавлены. Ведь всякое мировоззрение в конечном счете есть лишь синтез существующих элементов мысли. И если такой синтез полностью обобщает великие тенденции, как, например, прагматизм в его интеграции эмпиризма, волюнтаризма и утилитаризма, и если ему удается выразить свое мировоззрение в такой захватывающей, чтобы не сказать соблазнительной форме, как это делает Джемс в своем «Прагматизме», то, конечно, нельзя отказать такому мировоззрению в научном праве на существование.
Прагматизм нужно критиковать изнутри, исходя из его собственных предпосылок, а не с позиций идеализма, как это пытается делать Мёнстерберг. Это два темперамента, как правильно признал Джемс. Но темпераменты нельзя опровергнуть. «Как я это вижу» – это заголовок перед каждым храмом, не только перед пантеоном искусства, но и перед строгим собором науки. Никто не может оспорить его способ видения. Вопрос лишь в том, правильно ли он видит со своей позиции. И вот здесь-то и возникает наша критика прагматизма.
«voir pour prévoir» [видеть, чтобы предвидеть – wp] Комте стоит на пороге прагматизма. Любое знание имеет телеологическую подоплеку. Оно должно научить нас формировать нашу будущую жизнь. Грубо говоря: ipsissimae res sunt veritas et utilitas [истина и польза – одни и те же вещи – wp] – так говорит архипрагматик Фрэнсис Бэкон. Фейербаховское «довольствуйся данным миром» прагматизм трактует так: в той мере, в какой данный мир в настоящем и прошлом содержит указатели на будущее, «инструкции для блаженной жизни», как сказал бы Фихте.
Два критерия истины у Платона (также у Аристотеля) и Канта: необходимость и универсальность – заменяются здесь гедонистически-утилитарными критериями истины, индивидуальной полезности и общей целесообразности. Истинное и хорошее совпадают – этого требует биологически-телеологический фундамент логики, как это провозглашает прагматизм, следуя более ранним школам мысли, но с очень сильным личностным оттенком.



