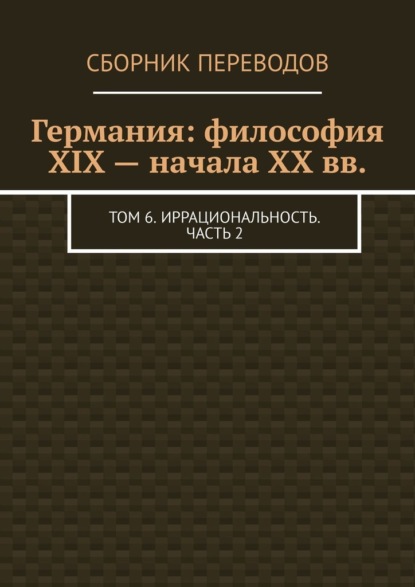
Полная версия:
Германия: философия XIX – начала XX вв. Том 6. Иррациональность. Часть 2
Существует, однако, ряд возражений против этой биологической логики, даже исходя из прагматистской отправной точки, и я подчеркиваю, что не буду повторять аргументы, которые Гуссерль в своих фундаментальных «Логических исследованиях» и Мёнстерберг в своей «Философии ценностей» (Лейпциг, 1908) объединили в впечатляющее единство против всякого психологизма. Я также не буду использовать в своих целях богатую полемическую литературу англичан, французов и итальянцев против прагматизма. Для меня это скорее вопрос трудностей мышления, которые я не могу подавить, несмотря на мое сочувственное отношение к основным требованиям прагматизма. Если г-н Джемс и г-н Шиллер возьмут на себя труд ознакомиться с моими «Wende des Jahrhunderts» (Tübingen 1899), «Der Sinn des Daseins» (1904) и «Der soziale Optimismus» (Jena 1905), они обнаружат в том, что я называю эволюционистским критицизмом и энергичным оптимизмом, много сходства с их собственной точкой зрения, иногда даже буквальное соответствие. В случае, если Джемс и Шиллер, как и Вильгельм Иерусалем, предъявят мне претензии по поводу прагматизма, я должен резюмировать свои оговорки относительно метода и результата. Как бы я ни симпатизировал телеологическому подходу, я должен возразить против того, чтобы видеть в телеологии больше, чем она способна предложить. В этом Кант сказал за меня последнее слово. Телеология – это эвристический и регулятивный, но никогда не конституирующий принцип, как причинность. Поэтому я отвергаю трансцендентальную телеологию, против которой направляют свои смертоносные стрелы Декарт, Гоббс и Спиноза, так же решительно, как я отстаиваю имманентную телеологию вместе с Лейбницем (правильно понимать: даже вместе с Кантом). В своем трактате «Причинность, телеология и свобода» я прояснил свою позицию по этим проблемам и получил почву для доктрины свободы, которую должен приветствовать индетерминист Джеймс. В своей работе «Социальный вопрос в свете философии» (Штутгарт, 1903) я уточнил, что я понимаю под имманентной телеологией.
Под «имманентной телеологией» я понимаю необходимую цель человеческих волевых сообществ. Любая социальная организация, конденсирующаяся в институтах обычая, права, религии и т. д., предстает как результат определенной цели человеческих сообществ воли. Всякая социальная причинность приобретает, таким образом, телеологический изгиб, ибо рассматриваемая здесь форма причинности – это не причина и следствие, не причина и следствие, а телеологическая причинная связь цели и средства. Все события необходимы для природы, вся логика необходима для мысли, но все действия необходимы для цели. Ибо причинность, как конститутивный принцип, распространяется безусловно, то есть и на неорганическую природу, в той мере, в какой она способна вызывать акты воли, то есть движения, приспособленные к целям. Причинность относится ко всем событиям, имманентная телеология – только к каждому действию. Природа – это система законов, общество – система целей. Но и у этих человеческих целей есть свои законы; они называются законами цели. Все социальные институты в конечном счете основаны на таких законах цели. Физическая причинность действует в соответствии с причиной и следствием, психологическая – в соответствии со стимулом и ощущением, логическая – в соответствии с причиной и следствием, социологическая – в соответствии с целью и средством.
Единственное новое в прагматизме с его генетической теорией истины – это то, что он оказывается логическим эволюционизмом. Истина помещается в поток практического становления. Как последователей гераклитовского Кратила, учителя Платона, которому он посвятил свой одноименный диалог, однажды насмешливо назвали «текучими», так и прагматики знают только становящуюся истину, которая должна стремиться к абсолютной истине или ее идеальной точке в постепенном приближении. Это старая концепция Conatus, «oregesthai» Аристотеля, hegemonikon Стоа, «импульс» Галилея, «старание» англичан, «импульс» Спинозы, «тенденция» у Лейбница, «целеустремленность» у Карла Эрнста фон Баера, «врожденный интерес» у Ратценхофера, «доминанты» у Рейнке, «понятие направления» у Гольдшейда; но перенесенные из физики в логику Джемсом. Как заявляют все проецирующие вперед мистики: Бог не есть, но он становится; он реализует себя в нас через нас, или для Фихте в его первый период Бог означает не бытие, но постепенную реализацию и осуществление, ordo ordinans, так и абсолютная истина для Джеймса и Шиллера была бы не бытием, но долженствованием, логика, следовательно, не выводом, но началом – инструментальным средством для постепенной реализации окончательной истины. Таким образом, наша современная формальная логика и, в ее центре, категории были бы лишь относительно удовлетворительными средствами, временными помощниками мысли, в то время как сама истина, окончательная истина, оставалась бы идеалом, к которому всегда нужно стремиться, но который никогда не будет реализован. Как, согласно иезуитской максиме, цель должна этически освящать средства, так и в прагматизме цель, абсолютная истина, освящает средства: наши нынешние средства мышления или категории с их лишь относительным истинным содержанием.
Против релятивизации всех современных знаний, с одной стороны, и абсолютизации всех знаний в далеком идеале – с другой, необходимо выдвинуть следующие возражения изнутри. Если критерием современного знания является его полезность и эффективность, его «способность работать», то по какому праву Джемс отвергает скептицизм? («Философское обозрение», январь 1908 г., стр. 9). Скептицизм оказался одним из самых мощных ферментов против закостеневших суеверий и закоренелых предрассудков, позволяющих нам лучше понять реальную структуру и работу природы. Любой догматизм оказывает усыпляющее действие, заглушает научное сознание и практически препятствует продвижению к абсолютной истине, которая, как предполагается, является нашим далеким идеалом. Релятивист Джемс не только не имеет логического права гордо отвергать союз скептицизма, но, напротив, обязан вступить с ним в братство по оружию в той мере, в какой он выбрасывает на свалку старое, отжившее, несостоятельное. Там, где скептицизм негативен, прагматизм должен принять его в свои ряды. Только там, где он оказывает депрессивное воздействие, как в его учении об эпохе, в его логическом аскетизме, где он становится, так сказать, кастратом знания, – там, но только там, прагматизм должен отказаться от своего союза.
Однако в позитивном расширении генетического понятия истины прагматизм снова наталкивается на стену, которую он не может отменить или отрицать, но должен сознательно преодолеть или перебросить через нее мост. Каким образом ощущения, которые даны нам лишь как изолированные атомы впечатлений, то есть случайно, бессвязно, в хаотическом беспорядке, вдруг образуют в нашем сознании ряды, серии, упорядочивающие функции? Как психологический хаос ощущений превращается в логический космос в сознании? Как факты становятся причинами, отдельные фрагментарные переживания – истиной, которая тоже лишь относительна, но тем не менее прекрасно объясняет связи во внешнем мире? Прежде всего, я воздержусь от указания на то, что опасность генетической теории истины заключается в бездонном субъективизме, который отделен от солипсизма лишь тонкой перегородкой. Я уже показал, как Джемс может и должен избежать солипсизма. Он спасается от Сциллы «логизма» с его «вечными формами мысли» – эпистемологического правнука «qualitates occultae» схоластов, – укрываясь в телеологии как истинный психолог. Такова тенденция времени. Немецкий психолог Теодор Липпс пришел к «пантелизму» (см. его трактат по натурфилософии в сборнике «Philosophie im Beginn des 20. Jahrhunderts», второе издание 1907 г., Гейдельберг), как и, совершенно независимо от него, прекрасный мыслитель Вильям Штерн из Бреслау в своем щедром труде «Person und Sache» (Лейпциг 1906), который насчитывает несколько томов. Штерн приходит к выводу, что, с одной стороны, каждому личностному свойству должен соответствовать механический эквивалент, а с другой – «все механическое должно в то же время иметь телеологический смысл» (т. I, с. 348). Поэтому Штерн заменяет психофизический параллелизм Спинозы и Вундта «телеомеханикой», более ориентированной на Лейбница.
Старая «телефобия», укоренившаяся ненависть ко всем объяснениям цели, взращенная Декартом, Спинозой и материалистами, явно сходит на нет. С тех пор как Карл Эрнст фон Баер под аплодисменты Лотце и новейших натурфилософов вновь помог старой аристотелевской «целеустремленности» (oresis) одержать победу, она предлагает чем дольше, тем более победоносную защиту против механической причинности материалистов. Вместе с Лейбницем и Эдуардом фон Хартманном мы привыкли видеть во всем механизме лишь частный случай всеохватывающей мировой целеустремленности, поскольку, очевидно, не может быть ничего более целеустремленного, чем механизм.
Но оправдывает ли прагматический метод, культ фактов, мышление без гипотез, генетическая теория истины такое использование телеологического принципа? Давид Койген в своем «Jahresbericht über die Literatur zur Metaphysik» (1908, с. 131) из нашего «Архива» прекрасно говорит: «Телеология всегда идет от целого к индивидууму, следовательно, всегда идет дедуктивно. Ибо целое и присущие ему цели существования уже дедуктивны по своей природе. В каждом телеологическом подходе, в отличие от каузального, целое является более ранним, а части – более поздними». Этот контраст с блестящей ясностью разработал Тренделенбург в своих «Логических исследованиях, следующих за аристотелевской приставкой телеологического подхода». Понятие энтелехии у Аристотеля и монады у Лейбница – напомним, что Лейбниц, прежде чем перенять термин «монада» у младшего ван Гельмонта, называл свое понятие субстанции «энтелехией» – исходит из того, что причины целей предшествуют причинам следствий, если не во времени, то, по крайней мере, по рангу и достоинству. Системы Фихте, Шеллинга и раннего романтизма (Фридрих Шлегель) имеют тот же телеологический характер. Эмпирическая телеология Пауля Николауса Коссманна и имманентная телеология наших современных натурфилософов (Оствальд, Рейнке, Дриш), по общему признанию, основаны на аристотелевской энтелехии, что безоговорочно признает Дриш. Но определение Махом «Я» как «единицы цели» и учение Джемса о понятиях или «родах» как «телеологических инструментах» также исходят из общего базового убеждения, что вся духовная жизнь телеологична. Согласно Мах, телеологическое единство эго основано на «неанализируемом постоянстве». Согласно этому, эго – это практическое единство для временного, временного внимания. Точно так же понятия сущности – бытие, действие, материя, дух – являются сокращенными символами для облегчения оптимизации в «среде». Вся наука, таким образом, сводится к практике, так же как всякая дедукция, согласно Миллю, является лишь сокращением, обратной индукцией, меморандумом для памяти. Перед нами протон псевдо [первая ошибка, первая ложь – wp] прагматизма, а также позитивизма Юма и всех связанных с ним тенденций. Не считая того, что биологический метод, который Джемс и его последователи хотят сделать плодотворным для логики, скорее всего, потерпит неудачу, поскольку биология и сегодня находится в состоянии брожения становления, предварительной неопределенности, то есть еще не подходит для закладки основ самой определенной из всех наук, формальной логики, прагматизм совершает тот же порочный круг, из которого не смог выбраться и Юм. Юм возводит субстанцию и причинность к привычкам мышления и законам ассоциации. Но как законы ассоциаций оказались в человеческом мозгу? Почему у всех людей и животных одни и те же законы ассоциации по смежности или сходству содержания? Юм выводит истинность законов ассоциаций с помощью законов ассоциаций, которые уже действуют в нем самом. Он, конечно, ответит вместе с Кантом и Гегелем: нельзя научиться плавать, не войдя в воду. Круг неизбежен. Хорошо, но тогда следует также открыто признать, что законы ассоциации представляют собой психогенетическое априори, подобно тому как кантовские категории, постоянство эго, трансцендентальное единство апперцепции образуют логическое априори. Юм так же мало может обойтись без априори, как и Джеймс, который является ярым противником психологии ассоциаций, что Вундт упустил из виду в своем «Grundriß der Psychologie», поскольку он ошибочно причислил Джемса к сторонникам психологии ассоциаций. Однако Джемс все же попадает в круг, раскрытый здесь, с принципом ассоциации или без него. Ибо независимо от того, берется ли вместе с Авенариусом и Махом принцип экономии, мышления в соответствии с «наименьшей мерой силы», parsimonium naturae [естественная экономия], как основа всех форм мышления, как стандарт объяснения, или, вместе с Джемсом, принцип отбора, принцип полезности, «способность работать» как критерий всех ценностей реальности и истины: этот принцип является априорным, из которого дедуктивно выводятся отдельные явления. Альтернатива такова: без высшего принципа объяснения, независимо от того, называется ли он каузальностью или телеологией, у нас есть только бессвязные атомы впечатлений, но нет обобщающего обзора мирового контекста, т.е. науки. Но если «видеть для того, чтобы говорить» Комте правомерно, то у нас должно быть какое-то постоянство, будь то «неанализируемое постоянство» эго у Маха, принцип экономии у Авенариуса, законы ассоциации у Юма, прагматическая телеология понятий у Джемса или трансцендентальное единство апперцепции у Канта и «сознания вообще» у посткантианцев. Если бы будущее не было похоже на прошлое, оно не поддавалось бы никаким предварительным расчетам, а значит, и научному пониманию. Ни одна удовлетворительная картина мира не может быть построена из одних лишь переменных. Некое постоянство – то есть видимое внутри: Я или проецируемое вовне: бытие или мир – мы обязательно должны потребовать, установить или взять за основу, чтобы иметь точку опоры в появлении полета, иначе мы неизбежно становимся жертвой солипсизма, который, в свою очередь, означает не что иное, как эпистемологический фетишизм.
Через наши логические принципы упорядочивания, через формирование понятий, категорий, методической классификации и рубрик мы преодолели не только религиозный, но и эпистемологический фетишизм. Было бы поистине чудесным отступлением, если бы мы сейчас вернулись через всю науку к атавистическому [примитивному – wp] индивидуализму поздних софистов, провозгласивших лозунг: не человек, а человек есть мера всех вещей. Именно прагматик, подчеркивающий полезность познания, должен прямо отвергнуть такое смешение знаний, которое неизбежно приведет к распаду всей научной проницательности и предвидения на изолированные атомы впечатлений. Утилитарная логика – а прагматизм как метод и генетическая теория истины есть не что иное – должна иметь по крайней мере одну предпосылку непоколебимой достоверности: константу в мире, где нет ничего, кроме переменных. У Маха и Авенариуса эта константа называется экономией мысли, у Джемса и Шиллера – экономией действия. Их точка соприкосновения – телеологический подход. Его константа называется не, как у Спинозы и рационалистов: causa, а, как у Аристотеля и Лейбница: telos. Конечно, telos в таком случае является не следствием, а причиной всех наших действий; но именно таким образом он становится конституирующим фактором не только всего познания, всей логики в случае Авенариуса и Маха, но и всего действия в случае Джемса и Шиллера. И точно так же, как у Юма воображение, вера и законы ассоциации представляют собой конститутивные элементы нашего научного мировоззрения, у прагматиков активность (способность к действию), экономия мышления и экономия действия – с помощью биологических принципов и, в частности, теории отбора Дарвина-Спенсера – являются позитивными факторами в понимании мира.
Но это ясно показывает, что у прагматизма тоже есть свое априори: telos. И если высмеивать логизм Канта, что он ожидает от нас веры в то, что человек приходит в мир с готовой таблицей категорий, то не стоит забывать бить себя в грудь. Мы все априори грешны. Да и так ли уж много плохого в том, что, согласно Канту, человек приходит в мир с таблицей категорий, согласно Юму – с готовыми законами ассоциаций, согласно Авенариусу – с автоматически функционирующей экономикой мышления, согласно Джемсу и Шиллеру – наконец, с аппаратом полезности и отбора, врожденной шкалой ценностей? Давайте будем честными, особенно с самими собой. Прагматизм не делает ничего другого, как подменяет телеологию сознания механикой сознания, как это предлагали нам Гоббс, Спиноза, Хартли, Пристли, Хьюм, натуралисты, материалисты и ассоциативные психологи. Прагматизм, таким образом, лишь следует общей черте времени, которая выражается в родственных попытках энергетизма, неоромантизма, неовитализма и натурфилософов подготовить первоклассные похороны материализма, отрицая первенство механического объяснения природы и мира и отдавая его телеологическому мировоззрению. Демокрит или Аристотель был лозунгом в античности, Спиноза или Лейбниц в XVII веке, Кант или Мах сегодня. Здесь Коген и Марбургская школа, платонизм и кантианство, здесь прагматизм, который эпистемологически продолжает линию Протагора, биологически – Аристотеля. В центре стоит Эдуард фон Гартман и его последователи, которые вместе с Лейбницем и Стоа объясняют все механическое как счастливый частный случай всеохватывающей мировой целесообразности.
Что вдвойне и втройне необходимо для нас сегодня, так это эпистемолого-критическая дискуссия о пределах допустимости телеологического взгляда на мир. Обнадеживающий подход предпринял П. Н. Коссманн в своих «Элементах эмпирической телеологии». Прагматизм должен продолжать развиваться здесь. Он не должен скатиться к абсурдной теории полезности, которая когда-то сделала доктрину Хрисиппа посмешищем для всех посвященных. Но ему также придется держать на расстоянии ту «ленивую» телеологию, которую Декарт, Гоббс и Спиноза по праву изгнали из священных залов науки. Именно потому, что ему придется честно признать, что телеологическое является его априори, ему придется обсуждать обоснованность, применимость и границы телеологической теории истины и реальности. Прагматизм должен занять позицию в отношении кантовской версии телеологического в «силе суждения», а именно: готов ли он придать онтологическое значение своему телеологическому выводу логики и в какой степени. Имеем ли мы в прагматизме дело только с эвристическими или регулятивными принципами или также и с конститутивными? Различие между регулятивной идеей и конституирующим принципом является фундаментальным. Первая основана на бытии, вторая – на долженствовании. Конститутивные законы устанавливают факт возникновения единиц через взаимодействие целого и частей; регулятивные идеи, однако, не содержат в себе сознания цели, указания на то, что должно быть. Если царство природы – это царство законов, а царство истории – царство целей, то телеология может претендовать на свое место в качестве средства познания в истории. Но правомерна ли она как средство познания природы, которая только есть, а не должна быть? Можем ли мы наделить природу и историю характером законов на основе прагматического объяснения мира, или мы можем лишь установить ритмы, закономерности, великие соответствия, короче говоря, правила, а не законы, тенденции, а не категории? Но если телеологические объяснения мира носят лишь предварительный, ориентирующий характер, как того хочет Джемс, то возникает вопрос, достаточно ли этого для научных целей и не следует ли в качестве дополнения использовать каузальные объяснения с их окончательным законоподобным характером, то есть конституирующие принципы. И вот страстная борьба между прагматизмом и трансцендентализмом сходится в извечной вражде: телеология против материализма.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Как только речь заходит о чувствах, всякое обсуждение прекращается.
2
«Очевидно, что в оппозиции между удовольствием и неудовольствием – первичной оппозиции в мире чувств – можно увидеть выражение оппозиции между прогрессом и упадком самого жизненного процесса». – Харальд Цоффдинг, Психология, стр. 378.
3
ср. Хофдинг, указ. соч. стр. 397: «Чисто теоретическое рассмотрение могло бы, конечно, привести к мнению, что на линии, ведущей от наивысшего удовольствия к сильнейшей боли, должна существовать центральная точка, которая лежит на равном расстоянии от двух крайних концов. Но этот теоретический центр не может быть выражением реального состояния сознания».
4
Кухленбек, Im Hochland der Gedankenwelt, Grundzüge einer heroisch-ästhetischen Weltanschauung (Individualismus), Leipzig 1903.
5
ср. пока что Хофдинг, указ. соч. стр. 394
6
«Право – это общее благо, – Оно живет в каждом сыне земли, – Оно вливается в нас, как кровь в сердце!» – говорит немецкий поэт об исторически подтвержденном сильном чувстве справедливости (Людвиг Уланд).
7
По этому поводу см. мое сочинение «Zur psychologischen Analyse der Welt», Berlin 1900, и в целом статью «Haben die Naturgesetze Wirklichkeit», 1907.
8
Энергетическая основа культурологии, Лейпциг, 1909
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов



