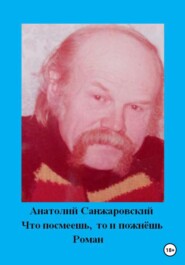 Полная версия
Полная версияЧто посмеешь, то и пожнёшь
– Нам про вас уже написали, – подбежал я под момент.
– Худость какую? – изменился в лице Святцев, будто морозом на него пахнуло. – Какие ещё народные мстители фугаски подпускают?
– Письмо анонимное. Подписано: селькор-доброжелатель.
– Всё ясно, – бормотнул Святцев. – Бред беременной медузы! Мне пала в голову мыслюха… Это мог наплести один ссученный Костюнька Васильцов. Наскок обух на обух… Какой он селькор я не знаю, а доброжелатель кре-е-е-е-епенькой… Ему опарафинить[226]… Это он гонит пургу… Так глянешь, на человека не похож. Рябой, будто черти на роже в свайку играли… Либо-что… Чтоб его те же черти горячим дёгтем обосрали! Кляуза, форменный кляуза! Как такому верить? У него одно ухо где-то срезали. Не подслушивай чужое! Не таскай по миру непотребщину! Это он, Костюня-проклятуха! Нагнал холоду! Напужал! И знаешь, за что взъелся этой глупан? В прошлом месяце, в крайний день, услал бригадир меня с одним ездюком[227] забить двухгодовалую тёлку для садика. Я спросил какую. Бригадир говорит, спроси у главврача, то есть у ветеринара… ну, у этого у самого Костюни. Этот лохмоногий там что гонористый – квас на вилках едет! Встретил я его совместно с пастухом Михелкиным, спросил, какую забивать тёлку, он и ответь: да поймайте там, которая прошлый год болела лишаем. А в прошлом годе всё стадо болело лишаем. Ну, приехали мы в загон, поймали тёлку, какая на нас глядела. Я считаю, из этой тёлки получилась бы хорошая корова. У нас на ферме стоят об двух сосках, без зубов. Не коровы, а козы. В самый напор дают по литру. А тут молодой племенной скот собственноручно уничтожается… Ну, забили, обделали. Как игрушечка! Тушу в кузов на шкуру и повезли на склад.
Ну, начали сдавать. К нам на склад подъехал в нетрезвом… в непотребном состоянии этот самый глумной Костюня. Сразу набросился на нас, почему мала шея у телёнка. Я ему ответил, что это не жирафа из Африки. Потом он стал наезжать, что мала печёнка. Вначале я думал, что он шутит. Я подвесил тушу, сдал в склад сто двадцать четыре кило мяса, восемь кило ливеру и двадцать четыре кило – голова да ноги.
На второй день в конторе шум, будто мы отрубили шею. Я к митрополиту, то есть к председателю. Настрогал заявлению, что это является оскорблением… Который обещал разобраться… На этом дело и заглохло. Чеши, паря, грудь, отдыхай… Но получаю я зарплату, с меня сдержано восемь рубляшей. За мясо! Я в профсоюз. Да полный бесполезняк! Посегодня он и не думает разбирать либо-что. А промежду собой говорят, что шея не отрублена, а вырезано из неё восемь кило. Я к главврачу, то есть к ветеринару. Тот начал наносить всякие оскорбления налево и направо.
– Каждый шинтрапа будет ещё искать свои права! – заявил при всей конторе. Заявил и ряд других слов. За оскорбление я отдал заявлению в товарищеский суд. И посейчас никакого ответа ни от одной дистанции. Конечно, как же они, суд да профсоюз, пойдут на главврача, то есть на ветеринара? Он может им спонадобиться… Бурёнка личная заболеет, кабанчик ли… Это мне он без разницы. Санушка будет и людям докторь, и скотине докторь. Докторь и в Африке докторь. А этому преподобному Костюне я не шинтрапа, а участник Великой Отечественной войны. Сходи понюхай… Там крутило, как в котелке! Имею два ранения, принёс грыжу с фронта, сделал по счёту две операции и зараз честно работаю в Ищереди, где и родился чернорабочим. Я, можно сказать, герой по труду. Кую, сею, убираю, кормлю его же. А он уже и в газетёху вставь меня!
3
Нетерпение разрывало меня.
Но я стойко слушал.
Я нарочно не перебивал, зная, дай человеку выговориться, и его язык сам его сгубит.
И впервые проверенный во многие годы мой принцип дал осечку: к тому, что было в письме, Святцев даже намёком не подходил.
Пьян, пьян, а худого себе на хвост не уронит. Послушай ещё его, так начнёт распинаться, что он герой войны, не меньше и великомученик.
Злость закипала во мне.
Я не выдержал правил игры, рубанул в лоб:
– Что вас подожгло расписаться с покойницей? Её девятнадцать тысяч?
– Глумёж это, гореспондент. – ровно, вгладь, даже с ленью в голосе проронил Святцев. – Да свались мне самодуром Мотюшкины капитальцы, разве б я вёл смертную войнищу за какие-то восемь целкачей? Я ж не получаю, как Ленин в семнадцатом, по пятнадцать миллионов марок… Ну?
– Вы уже получили её деньги.
– Вот какой басурманец всё это нанёс вам в редакцию для смехоты, с того и сымай спрос либо-что. А я чист, как божье стеколушко. Не промахнись. Не удумай рисовать, не вызнамши дело с корня. Мало ль какой враженяка побалохвостил. А ты что, всё то и ладь в строку? Не пихай, писарюк, меня в эту грязь. Христом-Богом прошу. А то… На тебе ли бронь?.. А то так отмажу, что в заду затошнит!
И чем навалистей Святцев уверял, что он чист, во мне всё сильней полнилась вера в обратное.
Да что вера, что интуиция, когда нет документальных подтверждений?
От Святцева, конечно, ничего не добиться.
Он твёрдо шёл в благородную. Не сознавался.
Надо возвращаться в область, в управление сберкасс. Иначе как я получу официальную справку, кто оприходовал алексеевский вклад, по каким документам, когда.
Однако в управлении начальница, круглая, как кадушка, выслушав меня, молча указала на желтевшую на столе под стеклом памятку вкладчика, чиркнула неочищенным концом карандаша под первой строкой.
«Государство гарантирует тайну вкладов», – прочитал я и непонимающе уставился на начальницу.
– Ну, как? У матроса есть ещё вопросы? – колко спросила.
– Естественно. Кому выгодно и удобно возводить надёжную тайну вокруг вклада, который по липе хапнуло жулье? Государству?
– Ой-ой! – защитительно выбросила она короткое полешко руки. – Это ещё надо доказать. Письменно изложите ваш сигнал и в течение месяца ждите ответа. Отреагируем обязательно.
Вот так штукерия!
Да на что ж я жую газетный хлеб, если до публикации отдам свои материалы в управление? После принятия мер печатать? Махать кулаками, в кустах пересидевши драку?
Снова приплёлся я к Святцеву.
Полувиновато промямлил:
– Здравствуйте… Те же люди, в ту же хату…
Святцев даже не повернул ко мне лица.
Я подсел к нему на завалинку.
Намолчались мы до устали.
Я и заведи обиняком свою старую пластинку.
– Внасмех, что ля? – набычился Святцев. – По второму заходу окучиваешь! Иля думаешь, я мешком из-за угла пристукнутый? Либо-что? Да никакими щипцами ничего свежего из меня не вынешь!
– Вот беда, – вслух огорчился я.
– Эта беда не беда. Только б большей беды не было… Либо-что… Не дёргай меня боле за душу. Не то разгоню и носа не покажешь!
Уходил я из Ищереди с тяжёлым сердцем.
Как садиться за фельетон, раз на руках нет ничего документально подтверждённого? Надеяться на одну голую интуицию?
За долгую одинокую дорогу пробился я к мысли, что в районном городке непременно надо зайти к Шиманову. Шиманов молод, наверняка будет покладистей. Уж-то он что-нибудь да расскажет!
Но ни на работе, ни дома его не было. Отбыл в Геленджик. На курорт.
Пришлось говорить с Ираидой, его женой.
Молодая, соковитая, одетая в бордовое атласное платье с катастрофически глубоким вырезом на царски пышной груди, была она сама врачующая любезность.
Извиняясь и не в силах отодрать голодных глаз от погибельно засасывающего, как смертный водоворот, выреза, я пролепетал, что собираюсь писать фельетон про её мужа, но негоже писать, не поговорив с ним…
– Да, да… Очень даже негоже! – в меланхолической истомлённости смело поддержала меня в трудную минуту Ираида и пошла слегка дальше: – Не кажется ли вам, что всё это можно отложить?
– Лично мне не кажется, – сожалеюще возразил я, трудно отрывая глаза от пропасти коварного выреза.
Хорошенький пальчик указал на хрустальную вазу на столе. Ваза была полна невероятно крупных и красных яблок:
– Пожалуйста, угощайтесь!
Утром я наспех заморил коня стаканом гостиничного кефира, и во весь день больше ничего не ел. И теперь при виде этих выставочных яблок (на областной выставке только и видел такие), от которых, однако, упрямо отнекивался, я настолько одурел с голода, так разом придавившего, что у меня замутилась голова.
– Ваш муж на юге… – пробормотал я. – Пускай наотмашку отдыхает…
– Да, да! Пускай! – торопливо согласилась плутоглазка. – Знаете, бархатный сезон… Не отзывать же!
– Конечно. Только созвонитесь. Скажите помягче, был какой-то корреспондент, любопытничал относительно алексеевского вклада. Если ему есть что сказать, пускай даст в редакцию телеграмму в одно слово «Подождите». Телеграмму я жду ровно неделю.
– Право, какой вы нетерпеливый… Всего лишь одну? – с печальной надеждой улыбнулась Ираида. – А потом что будет, не напомни Алекс о себе?
– Увы. Фельетон в газете.
– Это жестоко! – с чувством резюмировала она, так что у неё даже шатнулась уютно торжественная шоколадница.[228]
Я поднялся идти.
Но, потеряв равновесие, снова сел на стул. И невесть почему тупо уставился на её волшебный, жизнерадостный бедраж. Я не мог отвести глаз – не было моих сил.
– Вы хотите уходить?
– П…пробую…
– Вы где остановились?
– В вашем бигхолле.[229]
– Боже! – вскрикнула роскошная Ираида, с хрустом ломая бархатистые пальчики. – Да что вы там забыли в том сарае?! Коммунальных клопов? Голодных мышей? Оставайтесь у нас! Вам будет хорошо! Гарантирую!.. Я бы на вашем месте осталась без колебаний. Ей-богушки! Мы вдвоём с сынишкой. Пеструнец уже спит. А-а… Тут такой маленький деликатес… Рядом с нами дом культуры. Я там в самодеятельности… Балуюсь на поварёшке.[230] И какой счастливый наезд! Через час даём концертуху. Пойдёмте! Развеетесь… Послушаете, как я играю на своей поварёшке. Не пожалеете. Вам понравится.
– Наверняка! – быстренько заверил я. – Мне уже нравится. Но…
– Ваше но пускай идёт в кино! Не держим… А… Повторяю… А киндарёнок спатки уже вовсю… Он нам не помеха… У нас три комнаты. Да неужели в этих апартаментах, – торжественно повела сановитой рукой вокруг, приглашая обозреть дорогие покои, – вам будет хуже?
– Хуже.
«Приказано выжить! – сказал я себе. – Уходи. И чем быстрей, тем лучше».
Сердце у меня билось так сильно, что я видел, как вздрагивала моя рубашка на груди.
Я прощально оглядел комнату.
Всё в комнате величаво багрово пламенело: в широкие окна зовуще и тесно било последнее вечернее солнце.
Дома через три я наткнулся на столовую.
Дверь была ещё открыта.
Я ликующе нырнул в неё.
– Э-э!.. Куды-ы!? Обедня вся, кончилась. Ос-сади-и! Ос-сади-и!..
Невесть откуда взявшаяся плотная деваха в белом, сытая, осклизло равнодушная, как медуза, одним толчком мягко-подушечного плеча эдак небрежно выпихнула меня из дверей.
Это развеселило меня.
– Тё-оть! – с ласковым укором запросился я (иногда на меня находит называть молоденьких забавниц тётями). – Тё-оть! За весь божий день ни крошки не склевал горький воробейка… Дайте иль продайте хлебца хоть кусочек с лошадиный носочек…
– Вот борзота! В ноль зальют тут!.. Потом ходют. Дайте им! Подайте! Иди своей ходкой. Не то я подам тебе пятнадцать суток на блюдечке!
Я весело пялился на неё и не уходил.
Стою молчу: на брань словцо купленное. Думаю, коли б эту попадью переделать на бадью, может, был бы толк.
– Се-ень! – запрокинув голову, суматошно крикнула девахоня куда-то в кислое нутро тошниловки. – Тихохо-од!
Из боковой, отдельной комнатёшки в зал вывалился трудный в шаге увалистый благодушный парень в милицейском. На ходу он вытирал пот со лба, губы.
– Нюш! Ну, ты чё, радость, шумишь?
– Зашумишь! Тут один в водяную хату[231] просится… – И показывает на меня. – Вот хухрик выкушал шкалик, а закусить нечемко. На закуску клянчит пятнадцать суток. Не найдётся?
– С дорогой душой! Только чего мелочиться?.. Какие-то пятнадцать… Для надёжки сдадим в камеру хранения![232]
– Гражданин! – с заметным усилием хмурясь, загремел бдец комком ключей. – Ну, что? Гуси улетели?[233] Пожалуйте в канарейку! – полуприказал он мне, указывая на жёлтую милицейскую машину у выхода. – В политбюро[234] обязательно поймаем ваших гусей. А попутко и разберёмся.
В отделении дежурный сказал моему конвоиру:
– Сень! Покуда я буду оформлять свеженького бомбардира… Я тут собрался… Вот тебе лампочка. Вкрути в амбарухе, – и кивнул на комнату за огромной застеклённой рамой.
Там на лавках вдоль стен понуро сидело человек пять задержанных.
Сеня схватил лампочку и в амбар.
Взлез на табуретку.
– Сень! Ну ты умён до безобразия! Постели ж хоть газету!
– А зачем? Я и так достану!
Дежурный записал меня в какую-то амбарную книгу, записал с моих слов.
А потом спрашивает, а чем я могу подтвердить, что я – я.
Молча подаю командировку, редакционное удостоверение.
– Сеня! – потускневшим, линялым голосом проговорил записывавший за перегородкой. – Ты с чем привёз товарища к нам в трибунал?
– Да как сказать… С Нюшей в дверях что-то не поладил.
– А что мне было с ней ладить? – не смолчал я. – Командировка какая-то жизнерадостная. С утра до ночи в бегах. Толком и разу не поел. А тут вдруг на пути родная столовка. Закрывалась уже. Я и попроси эту Нюшу дать или продать хоть кусок хлеба. Вот и вся авария!
Дежурный толсто вычеркнул меня.
Пристукнул кулаком по разложенной книжке:
– Ох, Сеня, Сенюшка! Тоскливая портупеюшка…[235] Всё-то у тебя кверх кутырками… Несчастный безнадёга! Неминуче выстарал себе выговорешник в приказе. А сейчас повинись перед товарищем да по-рыхлому[236] свези назад в тошниловку. Пока там твоя ненаглядка всё перемоет, он и поест.
И мне:
– Вы уж извините за нашего бейбёнка.[237] Совсем оплошал молодожён от счастья. У него с Нюшей медовый месяц в самом распале!
Сеня трудно извинился и покуда вёз в столовую, покаянно ругал себя малоумным до полного упора и рассказывал про себя, про Нюшу.
На прощанье он достал пачку дешёвеньких сигарет «Друг». Простодушно тряхнул передо мной пачкой с изображением овчарки:
– Угощайтесь портретом участкового!
Я не курил.
Но отказаться не повернулся язык. И я взял одну сигарку. Так, на сувенир.
Из столовой я не пошёл в гостиницу сразу.
А вернулся в отделение.
Любопытно было понаблюдать, что за публика туда стекается. А заодно попрошу, чтоб не наказывали Сеню.
Приворожил он меня своей наивностью и чистотой.
4
Святцев вернулся в кабинет главного врача и, бледный, угрюмый, угнездился в проседавшем уголке дивана.
В холодном вызове складывая руки на груди, ядовито проговорил:
– Итак, вернёмся к нашим баранам. – Однако с опаской, будто боясь испачкаться, тронул двумя оттопыренными пальцами, указательным (старики ещё называют его шишом) и средним, газетную вырезку, что свисала со стола. – Вы внимательно изучили это?
– Допустим.
– Вы думаете, чем кончается ваша эта писанина?
Что следовало отвечать на столь грубую выходку?
Взорванный ею, я, трудно сдерживаясь, глухо отстегнул, если он не сбавит тон на пол-оборота, я вообще не стану с ним разговаривать.
– Понятно! – отозвался он со слепящей злобой. – Что с нами разговаривать? Кто мы? Так… Второсортняк… Белые нули!
– Не смею возражать. Вам лучше себя знать.
– Но мы и вас знаем! – привскочив, он неистово ткнул в меня шпажисто острым пальцем. – Знаем и не боимся вашего железного клюва. Как клюнете, – кивок на газету, – так покойничек, как… Антон Долгов… Скажите, вы не задумывались, случайность это или закономерность, что ваши инициалы складываются в жуткое слово АД? Человек-ад… Передвижной ад… Ходячий ад… Для кого ад? Мне кажется, для всякого, с кем вас сводил рок. Адская жизнь начиналась для того, кого хотя вы и не клевали своим железным клювом, но на кого положили свой глаз. Этого было уже довольно… И в конце концов… Нынешний день встречи с вами мне следует, как учат древние, отметить белым камушком. Мать моя отмечала свой день… Мать мою вы не трогали, но после встречи с вами она вся изошла переживаниями. Всё ждала, ждала позора, который накличете вы на нашу семью, раззвонив на всю область об отце-дезертире. Изо дня в день ждала она беды, всё прислушивалась, не носят ли по селу слухов про отца с ваших газетных слов. Каждый день молила Бога, чтоб в газете ничего не было, и в газете, действительно, ничего не было. Отмолила мать от дома беду, да не отмолилась от вас. Со страха, с того надсадного, кусающегося страха, когда ждала, как приговора, вашей статьи, с бесконечных удушливых переживаний таяла, таяла… Сгорела свечка. Кому-то от этого темней стало в жизни, только не вам. Вы-то хоть раз подумали о ней!?
Ещё бы!
Не появилась статья вовсе не потому, что слишком хорошо молилась Авдотья, вовсе не потому.
Помнится, обе статьи занимали целую полосу.
По верху полосы шла шапка
ЛУЧШЕ УМЕРЕТЬ СТОЯ, ЧЕМ ЖИТЬ НА КОЛЕНЯХ!
Статью про бухенвальдца разверстали под тремя начальными словами шапки «Лучше умереть стоя…», а статью про Святцева – под окончанием шапки «… чем жить на коленях». В самый последний момент уже с подписанной в свет полосы я снял статью о Святцеве. Долго колебался, а снял-таки. И слава богу!
Самому Святцеву эта статья была б что мёртвому припарка. А Авдотье? А Санушке? Каково на всю жизнь печатные клейма: жена дезертира, сын дезертира?
Обо всём этом сбивчиво, путаясь почему-то, рассказал я Александру.
Александр принял рассказ с открытым недоверием.
– Если вы промолчали однажды, – пробухтел он с чёрным, дробным смешком, – то что же потянуло вас осчастливить отца во второй ваш визит вот этим? – костью пальца он сильно подолбил в вырезку фельетона на краю стола. – Что вам не молчалось? Разве вам уже не было жаль меня? Между нами, мальчиками, на что было подымать весь этот бум вокруг алексеевского вклада? Он что, ваш личный? Не мои это слова. Отцовы… Сын за отца не ответчик… Не одобряю я его… В законе не твоё – не тронь, считаю я. Отец же, увы, считал иначе. По его мнению, преступление там, где есть пострадавший. В данном случае, спросил бы он вас, кто в убытке? Государство? Не-ет… Шелестелки не его, шелестелки Алексеевой. Пострадала сама Алексеева? Опять же нет. Эти мани-мани, – подушечкой большого, наладонного, пальца он блатмейстерски потёр по подушечкам среднего и указательного пальцев, – ей там как-то ни к чему. Тогда зачем весь этот сырым-бырым? – показал снова на вырезку. – Хоть знаете, чем кончилось?
– Помнится, мы давали последушку. Редакции сообщили о принятых мерах. До копеечки всё взыскали с вашего отца и с нотариуса Шиманова. С Шимановым отец поделился, как и обещал. На те тугрики Шиманов успел прикупить южного загара. Значит, взыскали, хотели было уже переслать весь вклад сестре покойной – случайно натолкнулись на завещание Алексеевой и сделали по её воле, отправили вклад гнилушанскому детдому, где когда-то сама воспитывалась.
С печальным попрёком Александр покачал головой.
– По чёрной иронии судьбы, – вспоминал он, – вскоре именно в этот детдом меня привёз наш сосед дядя Ваня-Вояка, тогдашний завмаг. Вся Ищередь обегала наше семейство, как прокажённое. Один дядя Ваня не гнушался. Как водился с отцом смалу, так и до конца… Ну, привёз, оставил и пошёл, подпирается палочкой. Люди кругом ласковые, а чужие. Как одному среди чужих в четыре года? И вижу, уходит от меня самый близкий человек… Заревел… погнался за дядей. Обнял за ногу, стою реву последними слезами. Сквозь слезу улыбнулся мне дядя Ваня, говорит: Санушка, не горюй. С четырьмя ребятками похрамываю, а будет и пять – не упаду. Перехромаю. Так я до армии и рос у дяди Вани. Из армии не отважился я вернуться в Ищередь. Ищередь не забывала. Ищередь не прощала за отца… Подался на шахту, в Воркуту. Подкопил денег – кто бы меня кормил в институте? – поступил в медицинский, как хотел когда-то отец. И во всё время, пока учился, слал мне посылки дядя Ваня, святая душа…
– А отец что, отказался от вас?
– По вашей милости, – глухо, укоряюще ответил Александр. – Когда он прочитал про себя, с ним случился удар. Своим клеветоном вы убили отца…
Не мог я этому поверить. Всякое бывало с фельетонными друзьями. Снимали, судили… Одна вилюшка – расписалась с одним, но прямо из загса уехала жить к другому – пила уксус. Всё внутри пожгла. Однако уцелела. Уксус был отличный, советский, то есть с брачком… Всякое бывало, но чтоб удар…
И всё же что я мог сказать Александру?
– Не думал, – пробормотал я, – что всё так… Вы уж…
– Что, извините?! – угарно вскричал Александр. – Мол, издержки производства?! Извиняю! Пожалуйста! – переломился в широком свирепом поклоне, загребая растопыренными пальцами по полу. – Только никакими извинениями не подымешь отца! Вам мало смерти матери? Мало смерти отца?.. Как же! Бог любит троицу, а вы разве ниже Бога? Тоже подавай троицу! Не на то ли и заявились сейчас ко мне? Это низко! Это, наконец… Да не имеете права писать обо мне!
Я ответил, что и не собирался писать о нём, и, подумав, а не занесена ли эта птаха в Красную книгу, полюбопытствовал, почему это не имею права?
– В личных целях мести использовать служебное положение… Это безнравственно, если хотите!
Ба-а, куда он погнул углы! Напрасно. Понадобится, я не паду на коленки перед этой демагогией.
Там, в зимнем ночном лесу…
Догнав меня и не подходя близко, отец его начал памятный мне торг. «Давай меняться, писарчушка. Давай менка на менку. Ты мне – блокнотину, я тебе – жизнь, и катись ты к кривой матери. Где ты такой вумный и выщелкнулся!?»
Как я понял, он тогда пуще всего боялся моих записей в блокноте.
Блокнота я ему не отдал.
Он швырнул в меня топор, по счастью, мимо.
Я словчил подобрать топор раньше Святцева.
Святцев тут же отстал от меня.
С топором я благополучно и добрался до района.
– Как вы думаете, – спросил я Александра, – бросая топор в меня, ваш родитель, может, думал о высокой нравственности? Может, все двадцать один год, укрываясь, он думал-решал, нравственно или безнравственно поступил, сбежав с фронта? Может, наконец, он думал о нравственности, когда подбирался к чужим деньгам?
– Отец получил своё, – скомканно проговорил Александр, – и давайте не трогать мёртвых. Лучше давайте раньше времени не подымать живых в воздух.
– Давайте.
Никогда не искал я корысти в газете и не ищу. Но меня почему-то задели Александровы разглагольствования. Ишь, журналист не имеет права защитить даже родную мать, попавшую в грязные лапы к этому фрукту. По его логике, сапожнику нельзя самому себе шить сапоги, врач не имеет права лечить своих родственников. Этот шкодливый гусь будет фокусничать, а ты молчи?
Вспомнилось, само упало с языка:
– За двадцать дней поставить диагноз – по старости. Что это за диковинный диагноз?
– Продолжайте, продолжайте… Сейчас самые квалифицированные медики – это родичи больных! – Слабая, незлая улыбка тронула его тонкие нервные губы. – Я не оправдываюсь, только скажу. Я сделал всё, что мог. Кто может, пусть сделает лучше.
Опираясь на вытертый диванный валик, Александр медленно встал и, длинно посмотрев на блёсткий кружок часов у себя на руке, с виноватостью в голосе добавил, что сегодня в ночь ему дежурить, не вредно соснуть бы с часок.
Я промолчал.
Он пошёл к двери. Натолкнувшись глазами на овал стенного зеркала, вопросительный задержал на себе взгляд в зеркале. Остановился.
– Как говорили древние, – сказал Святцев в раздумье, – никто из смертных не бывает всякий час благоразумен, никакой человек не может быть умён всегда. Наверняка вывернул я что-нибудь да не то… Извините…
Промолчал я и на этот раз.
Однако уходил я от Александра с сосущим, неясным чувством вины.
Глава одиннадцатая
Сердце без тайности – пустая грамота.
Сердце сердцу весть подаёт.
1
После техникума Катя Силаева первую осень работала помощником мастера на маслозаводе.
Была Катя среднего роста, ладно сшитая. Наделила её судьба той зовущей русской красотой, которая властно заставляла при встрече обернуться на неё всякого парня в Гнилуше, обернуться да ещё тоскующе и вздохнуть.
Подружки завидовали Катиной красоте и открыто не любили Катю за скрытый, молчаливый характер. Нет в Кате артельной струнки. С такой ни на танцы, ни на пруд. Только и знает: работа – дом, дом – работа, работа – дом, дом – работа!..
Ну, работа, положим, понятно. Тут обсуждать нечего. Отдай восемь часов и не греши. Так неужели остальное время только на то и дано, чтоб приятельствовать с полуглухой бабой Настей, одиноко доживавшей свой век тем, что понасбирала полный, как лукошко, домок квартирантов?



