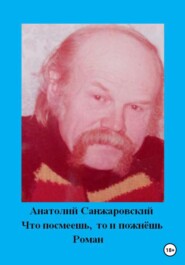 Полная версия
Полная версияЧто посмеешь, то и пожнёшь
– Позвольте остаться, – шепнул я. – По работе так надо…
– Ну, разве по работе… Оставайтесь. Может, что и выработаете. Только под бока нечего вам кинуть и раз… Одна соломенка и есть…
Она взяла с койки ближнюю из двух подушек, тесно набитых хрусткой соломой, положила на конец лавки.
После пробежки двадцати вёрст по налитому водой снегу я обрадовался лавке не меньше чем королевской перине и безо лжи повалился в восторге на лавку, вольно раскидав руки по сторонам, отчего одной рукой бухнулся в лопнутое бревно в стене, другая упала на стылый пол.
И только сейчас я почувствовал, что устал, настолько устал, что не нашлось сил подобрать с пола руку.
Я тупо пялился в аврально провисший чёрный потолок, готовый во всякую минуту рухнуть.
Хозяева потихоньку укладывались.
– Двигайся, клумба. Знай двигайся к стенке. Дай места с краю, – ворчал он.
– С краю все места заняты, – с глухим трудным смешком отбояривалась она. – Ползи, кривой партизанец, через. К стеночке давай.
Наконец они присмирели.
Поперёк одеяла на них толсто чернели одна за другой её и его фуфайки, будто две громоздкие птицы раскинули подбитые крылья.
– Дуня, выщелкни свет, – жалобно запросил он. – При свете я слепну… Без света способней…
– Пускай горит, как у всех у добрых людей, – твёрдо обломила она и принялась мне объяснять: – Вперёд у нас в лампочке ель-ель желтела ниточка. А вот уже с год кормимся мы от высокой линии. Светло – майский день! Вся Ищередь спит при свете, наглядеться, – гордо повела бровями на толстую, жирную лампочку без абажура, свисавшую так низко, что не пройдёшь под ней, не пригнувшись, – наглядеться никак не наглядимся да не налюбуемся. А кому не нравится свет, – коротко катнула по подушке голову к мужу, – воткни свои бесстыжики в подушку и сопи. А без света как? Мыши на свет всё робеют лезть. А коли полезут, так коту способней будет на свету перехлопать эту нечистоту.
За Авдотьиными словами я не слышал, как на мягких копытцах подошла Маечка.
Схватила меня за ухо, накинулась взахлёбку сосать.
– Майка! – шумнула Авдотья. – Тебе сбедокурить – молоком не корми. Иша, игрец напал! Чего не лежалось у печки?
Отвечая, Маечка задавленно замычала, и я, выдернув своё родное ухо из её розового рта, пахнущего молозивом, надел шапку, завязал тесёмки под подбородком.
Долгим и пронзительно-печальным взглядом посмотрела на меня Маечка. Тяжко вздохнув, она не пошла назад в свой закуток, легла возле лавки. Я благодарно положил ей руку на лоб, погладил атласную шёрстку.
Лавка моя стояла вдоль глухой, без окон, стены. Было холодно. Холод я прежде всего ощущал коленями, на которые никак не мог натянуть короткие полы полупальто. Я лёг, вовсе не раздеваясь: в ботинках, в ушанке, напялил даже перчатки.
Сквозь дрёму я размыто вслушался в улицу.
Улица студёно безмолвствовала. Лишь изредка за стеной взрывались стремительно нарастающие, столь и стремительно затухающие хрустки снега под быстрыми, спешащими ногами. В зимний холод всякий молод!
Сильней таки невероятного холода была усталость, взявшая меня в тисы, и я скоро заснул.
7
Откуда-то сверху раздался надсадный, истошный детский голос:
– Папка!
Этот цепенящий вскрик подбросил меня, как мяч.
Я было сел, но тут же, увидев над собой Святцева с длинным – с локоть! – блескучим тонким ножом, снова повалился на лавку, зачем-то заслоняя лицо руками.
– Папка! Что ты! – дуром ревел всё тот же голос, и выроненный нож, которым обычно колют кабанов, стоймя упал мне на грудь.
Жало ножа было до того острое, что насквозь прохватило пальто и завязло, завязло настолько глубоко и плотно, что, когда я в следующее мгновение вскочил на ноги, нож торчком торчал из меня и не падал.
Я сражённо вытаращился на пятящегося к двери Святцева. Лицо у него было дикое, мстительное. Я не знал, что мне делать.
– У-уб-и-и-ил! – придушенно захрипела Авдотья, схватываясь с постели.
В два резвых прыжка Святцев вернулся ко мне, потянулся, растаращив кровянистые глаза навылупке, к ножу, но я, растерянный, инстинктивно опередил-таки Святцева, выдернул нож.
Это уже кое-что, если не всё, меняло.
Увидев у меня в руке нож, Святцев кинулся прочь, и я, двумя пальцами сжав нож за шильный кончик, изо всей силы метнул вдогон Святцеву.
Какой-то миг спас его. Хватило именно мига, когда Святцева успела загородить от летящего карающего ножа закрывающаяся дверь. Воткнувшись в дверь, нож закачался из стороны в сторону.
Я окаменело сел на лавку.
Подбежала Авдотья, с плачем обняла.
– Сынок!.. Сыночек!.. Т-ты живой?
– А я почем знаю…
Я расстегнул пальто, задрал к горлу свитер.
На мне не было ни царапинки!
– Вот так штука! – Разлохмаченная Авдотья разинула рот, как поле поворот. – Я ж своими гляделками видала… Из самой же из грудоньки ножина колом выставлялся!
Я обследовал пальто.
Сверху оно было испорчено. Я сунул в дырочку палец. Наткнулся на жёсткий широкий блокнот в кармане. Достал блокнот. Насквозь, до второй обложки, блокнот был пробит.
Конечно, в блокноте нож и завяз.
Под ножом, под этой бедой, страницы как бы сжались, плотней подобрались друг к дружке, чтобы выстоять, чтобы уберечь меня, литком слились в единую тугую броню, и сломалась беда в этой броне, не дала броня ей дальше ходу.
Зато теперь эти дырчатые страницы уже не жили отдельно, уже не могли с бархатным хрустом рассыпаться, разойтись по листочку – по краям прохода ножа листки чуть завернулись во все стороны, и одна сквозная смертельная рана держала их вместе.
Ком набух у меня в горле. Я погладил блокнот…
– Мамушка моя породушка, – вслух разбито думала Авдотья. – Ну какими словами всё это обрисуешь? Какого ума дашь всей этой ужасти? Курёнку ж головы не срубил! А под старость лет на человека с чем лихостной кинулся!.. Я-то, ляпалка, ещё с вечера как-то неясно почуяла, к неладности он правится… Хотел, чтоб ночь без огня… Тогда б, сына, я уже не говорела с тобой как сейчас…
В бережи положил я блокнот в карман.
Застёгиваю пальто.
– Это ж надо, – благостно засветилась Авдотья. – Так глянуть – белые листочки. А ты смотри, артельно уберегли человека…
И, оживляясь и радуясь голосом, почти выкрикнула:
– Однако листочки листочками, да не одне листочки были тебе, соколушка, защитой. Наиглавный спаситель вот он вот! – в торжестве указала на беленького мальчика, что заморенно и пугливо хлопал с печки долгими ресничками. – Вот кто выдернул из беды. Царствует себе на бочкý, тепло стерегёт. Санушка, бесхвостой горносталь, как ты всю эту безобразию углядел?
Саня конфузливо задёрнул занавеску, поскрёбся в запечную глушь.
– Чего ж прятаться? Ты уж со своей вышки докладай ёбчеству как на духу, – ласково выманивала Авдотья признание.
– А чё, мамика, докладать… – несмелым, мятым голоском откуда-то, казалось, из недр печи отозвался Саня. – Всхотелось по-малому, толкнулся лезть вниз, в холод, и не полез. Увидал чужого дяденьку, забоялся… Лежу гляжу, больно интересно, как он в завязанной шапке спит. Тут ворухнулся папка, тихо кругом посмотрел и кошкой полез с койки не по ногам твоим, ма, а так, через верх…
– Через спинку, – пояснила Авдотья. – Я его, паразитовца, даве нарочно утолкала к стенке. Думала, ежли поползёт, заслышу. А он, видал, в самую силу сна через верх тенью прянул! Через шишаки! А потом? Что потом, сыну?
– Оделся, обулся, на пальчиках докрался к дяденьке и хва-ать из сапога ножик да ка-ак замахнётся! Я и воскричи.
– Божье дело сделал ты, сынок… Спас… Человек не без сердца. Ты вот уберёг гостюшку, а гостюшка, может статься такое, в благодарность не тронет папаньку нашего. Подаст же Господь гостинчик!
– Да не трону я ваш гостинчик. Не убивайтесь… – Я поднял тон, нарочито громко позвал: – Саня! Божий человек! Покажись! Дай пожму на прощанье твою ясную руку.
– Уходить?! – всполошилась Авдотья. – Одному? Не лепи дурину! Не пущу! Самая ночь, зги божьей не видать. На свету только и выпущу из хаты!
Авдотья пришатнулась ко мне. Затараторила на ухо:
– Ты, стоумовый, думствуй… Можа, он за дверьми дожидается с топором… И за селом способный настигнуть… Кисель же в коробке!.. Пропащая душа! Ни к лугу ни к болоту… Запало дуравливому, что ты заберёшь его, он и…
Авдотья снова подняла голос, твердя, что не пустит в ночь одного.
Она напяливала на себя в спехе фуфайку, совала босу ногу в валенок и не могла всё никак попасть.
С минуту я постоял у печки, ожидая Санушку.
Однако ждал я напрасно.
Санушка так и не выткнулся меж плотно сдвинутых кусков занавески.
Жутко стало мне в святцевской хате. Ещё не хватало, подумалось со злорадством, что в этой Ищереди уцелеет от меня один мой полустёртый карандаш. Потемну незвано пришёл, потемну в глухой час и выкачусь.
Я побрёл к двери.
Распатланная Авдотья, выпередив меня, распято кинула руки перед дверью. Не пущу!
Молча я приподнял её податливую, усталую руку и ступил в тёмный проход, опахнувший стынью.
Оберегая в проходе от нечаянной беды, Авдотья подняла, разрогатила руки, нависла сзади надо мной, идя след в след.
– К чему этот маскарад? – запротивился я, конфузясь.
– Ничего, ничего! Так он тебя ничем не достанет.
Провожала Авдотья меня и по мёртвому селу, не отставала уже и потом, когда дорога упала с бугра и полилась в стонущий на предутреннем ветру голый лес…
Глава десятая
Что сказано, то связано.
1
Я стоял у окна, собрав руки на груди.
За окном кидало мрачным снегом. К снегу несмело подхватывался редкий, непрочный дождь. Я смотрел на эту торопливую, тревожную заверть и явственно видел давнюю Ищередь и всё то, что там со мной случилось. Неужели тому уже двадцать лет? Неужели тот маленький храбрун, так и не отважившийся подать мне руку на прощание, и есть вот этот человек?
Из снежной кутерьмы выломилась расхристанная, нервная фигура Святцева-младшего с трепетавшим на ветру куском газеты в руке.
– Какой же я дубак! – во весь рот пальнул он с порожка. – Какой же глупарь! И на что было тогда кричать отцу? Сейчас я бы был по крайней мере избавлен от объяснений с вами! Да, я резок. У меня есть на то право. Вот оно!
Святцев карающе потряс старой, с желтинкой, газетной вырезкой, швырнул её ко мне на стол и, процедив, что вернётся через минуту, демонстративно вышел, нервно подтанцовывая.
Старые газеты всегда меня волнуют.
Но когда в старой газете видишь себя, цену такой газеты в две копейки не впихнёшь.
В святцевской вырезке был мой фельетон «И покойницу выдали замуж».
«А, старый знакомый… Ну, здравствуй, здравствуй… Что же ты весь такой рваный да мятый? Или ты с кем воевал?»
Осторожно разгладил я на колене истёртый, продранный во многих местах на сгибах листок и с грустью начал читать:
«Его любили коллективно.
Всей службой Фемиды.
– Наш Алёша – эталон молодого человека. Услышит неблагозвучное слово – рдеет, что невеста на выданье. А какой внимательный! Ах, если бы все мужчины были такие! На женском лице не просеклась бы ни одна морщинка!
Им восхищались. Носили на руках. Потому что «вёл себя идеально и на работе, и на досуге».
Алёша Шиманов – судебный исполнитель. Учился заочно в юридическом. Прочили ему карьеру народного судьи.
Для начала перевели в нотариусы.
Вызвали в область. Опыта подбавить.
«К прохождению практики Шиманов относился серьёзно, – свидетельствует заместитель областного нотариуса Катигрош. – Особое внимание уделил сложным видам нотариальных действий, а именно: удостоверению сделок, выдаче свидетельств о праве наследования, о праве собственности и т. д. Зарекомендовал себя настойчивым, энергичным в достижении поставленной цели».
Напрактиковали Алёшу.
И в новом мундире он идеален. По-прежнему все от него без ума.
Однако любовь любовью, а табачок врозь.
Как ни обожали, а ревизора прислали.
«Проверить тождественность принятых сумм полноте сдачи их в госбанк бывшим судисполнителем Шимановым».
Ай-ай!
У непрошеного гостя «вызвали сомнение подчистки и исправления банковских документов с меньшей суммы на большую. С 20 рублей на 200. С 8 на 80…»
Гранатовым огнём горел Алеша, шумно сморкался и писал объяснение:
«В четвёртом квартале было большое поступление исполнительных листов. Выезжая по ним на места, т. е. в сельские Советы, я расходовал деньги, принятые по квитанции, так как своих не оставалось. Когда наставал срок нести деньги в банк, для сдачи полноты сумм у меня не хватало, взять негде. Кроме того, часть денег я израсходовал на сессию в юридическом институте, где заочно учусь. Недосдал я всего 306 рублей. Основная причина состоит в том, что в это время в семье были большие неприятности. Я отдавал зарплату на питание, а жена Ираида из своей зарплаты мне ничего не давала и – обратите внимание! – даже запрещала учиться. А учёба в то время была для меня всего дороже. Я стремился получить образование и быть достойным человеком, т. е. достойным членом нашего общества. А на поездку в Москву требовались определенные расходы. Вот это и толкнуло меня на преступление. Заверяю, что никогда не совершу больше ничего такого и прошу дать мне возможность оправдаться честным трудом на том участке, где позволите работать».
Кумачовый Алёша умолял.
Это ничуть не мешало ему параллельно заваривать кашу покруче, чтобы «разойтись с долгами». Он почти твёрдо считал, что клин вышибают клином.
Глаза не смотрели со стыда, а руки, соответственно, делали.
Не дай Бог обозначится на миру эта история. В неё ж в мгновение ока вцепится прокурор. Тогда доказывай, что тебе до смерти хочется быть достойным человеком!
Вошла знакомая бухгалтерша узла связи Борина с каким-то мужичком. Мужичок петлисто заулыбался.
– Работёшка, сынок, есть…
– На общественных началах?
– Кладёшь в обиду… либо-что… За барашка, спаситель наш, в бумажке… Чтоба колёса не скрыпели… Всякие колёса любят масло…
– Бабульки вперёд…[224]
– Только вперёд!.. Слушай, не благопрепятствуй. Тут такое дело, сам архиерей не расколупает… Значит, у меня примёрла Дуня. Мне жена, а ей, – кивок на Борину, – сестра. Раз померла, чвирикаю один… Недели с три! Вдруг заявляется Ванька-Вояка, с детства дружок: «Акимыч, наливай благодарственную. Невесту тебе нашёл! Мотюшку!» Я, может, и не взял бы горожанку в дом… Да осенины уже на носу, картошку убирать, а подсобить некому. Ладноть, думаю, вдвоёмша скорей уберём.
Расписываться я не стал. Резона не видел. Распишись, ан сам Христу душу наперёд подаришь, чем она? Тогда ей – всё моё! Дни-то мои заходят, тухлеют. Мне под полста, а она на полный двадцатник свежей!
Ладно, сошлись. Сжили без венца, без расписки всего полтора месяца и на, раздуй тя горой, выпала моя Мотенька из лада. Слегла в городе в больницу. Бах вскорости новостюха. Угас огонёшек! Померла! Я так и сел. Да что это бабы моду взяли? Мрут, как мухи! Схоронил одну, вот другая. Снова ищи невесту?
Ну, невеста товар не заморский. Сыщется. А вот неповалимое горе сушит-кручинит. Распишись, совет отвалил бы красненькую на похороны, а то – ни граммочки!
Ладнуха. Открываю её чемоданишко. Одежонку-то ей надоть в чём привезть. Глядь – кучка десяток! Че-ты-ре тыщи! Я считаю в старых. Так всегда боле… Либо-что… Еще две книжки! На пят-над-цать тыщ!
Чёрная кровь во мне так и закипела кипнём.
– Ну, Ваня, – смеюсь дружку, – некогда распускать басни. Раз ты самолично подсуропил мне такую невестушку, ты и вези мне моё достояние из города. Лови машину да за Мотюшкой за золотой!
Ванька-хват живо прикатил покойницу, гроб – за магарычовую косушку чужой отдали! – и два ящика зверобоя. Проводины были красные! – мужичок мечтательно закрыл глаза и пошатался. – Господь не прогневается!
Розовея, Шиманов робко покашлял в кулак.
– Папаша, давайте дело.
– Завсегда, пожалуйста. Какими чарами мне уголубить, усватать эту пятнадцатку?
– Чары стандартные, потолочно-чернильные, – алея от крайнего смущения, покаянно прошелестел тихими словами Шиманов. – Так и быть, пожалую вам свидетельство, что вы, Святцев, – господи, фамилия-то какая святая, аж холодно!.. – Святцев Александр Акимович, житель села Нижняя Ищередь, являетесь единственным наследником имущества гражданки Алексеевой Матрёны Николаевны. И в сберкассу!
– Отдадут мигом? – маетно уточнил Святцев.
– Быстрее мига! – багровея, роняет Алеша. – Только сперва… Подай горы бумаг. А где они у вас? Ну, хотя бы свидетельство о браке, самая главная бумага, где?
– Нет как нет и невеста на погосте… Ах, бабы, ах, козье племя! – яро хватил себя Святцев по колену. – Это идолы в юбках! Ведь сколь ш-шокоталенка[225] таила! Наведался в больницу.
– Мотенька! Малинушка моя! Либо-что мне скажешь? – спрашиваю.
По лицу вижу, музыку пора заказывать, а она: не думай, от соколика от своего я ничего не скрываю. А!
– Волнуетесь? Со всеми бывает перед регистрацией. – Пунцовый Алёша заговорил менторским, вязким голосом: – Для регистрации требуется: а) взаимное согласие; б) достижение брачного возраста; в) паспорта. Согласие и возраст имеются, паспорт её будет. За неграмотного, – повернулся к Бориной, – вы? Пишите. Такая-то и такой-то вступили в брак – до нас замечено, «разве б хорошее дело назвали браком?» – десятого января одна тысяча девятьсот пятьдесят второго года.
– Эк хватил! – сглотнул слюну Святцев. – Додуть могут. Ить Дуня, законница, перед Матрёной была, только в шестьдесят третьем отстрадалась-то!
Алёша с изысканной вежливостью пропустил замечание мимо ушей и, пылая осклизлым кровавым румянцем, поздравил «новобранца» с законным, вручил копию свидетельства.
– А теперь выправим бомагу о смерти. Почила дорогая не четвёртого июля, как тут, а четырнадцатого февраля. Смерть в наших скромных интересах должна наступить раньше, ибо имущество умершей можно получить лишь через полгода после смерти. Ждать? Рискованно. На вклад вне конкурса претендует сестра умершей. Сестра пока и не подозревает о наличии этого вклада.
Отредактировал Алёша.
И вышло…
На пятый день после отхода в мир иной «невеста» собственной персоной пожаловала не в небесный сельсовет, а в земной и прописалась в Ищереди.
Ах, Алёша!
Маху дал. С лёта.
Горячая головушка.
Ей и сейчас горячо.
Под южным красно-медным солнцем.
Видите, устал, умучился в заботах. Катнул в геленджикское «Солнце» побаловаться солнцем.
Время мне сделать доклад прокурору. Ан против супружница Алёши.
– Да Алексей Михалыч вовсе не виноват! – истомно разъясняет она. – Он мягкий, застенчивый, добрый. Но есть, мягко говоря, люди, которые, опять же мягко говоря, нахально эксплуатируют его доброту в корыстных целях. Во-он кого надо брать под микитки! Не Алексей Михалыча! Да узнай Алекс Михалыч, что им интересовались из газеты, – со стыда помрёт. Я-то его знаю лучше вас!».
2
Тэ-экс… Хли-ипенький фельетонишка.
По нынешней поре водрузил бы на нём тяжелуху крест и забросил, не подумал бы вовсе печатать.
А тогда…
Тогда он стоил мне дорогого…
Был сентябрь. Не смолкавшие целую неделю дожди в кисель растолкли дорогу, так что покуда из района докувыркался я на своих клюшках до Ищереди, был я грязнее грязи.
Не успел я перевалиться через порог, как Святцев, громоздкий, отъевшийся гладуш, будто из теста сжатый, по-медвежьи облапил меня, забухал по звонкой спине.
Он бесшабашно обрадовался моему приходу, тем самым загнав меня окончательно в тупик. Смотрел весело, даже с каким-то большим бравым вызовом.
От прежнего Святцева, затюканного, пугливого, не уцелело и следа.
Скоро с огня явилась на стол полная сковорода жареной картошки, обозначилась чекушка.
– Поесть поем, а наливать не надо. Язва! – соврал я.
Язва производит впечатление.
Он удручающе смотрит на меня.
– Ну, гореспондент, нельзя так нельзя… А, – скосил он глаз на чекушку, – а книжечка, доложу я тебе по всей радостной форме, в хор-рошем переплёте! Выгодный ты гость… – С видимой досадой он лениво крестит себя чекушкой и, о зуб сорвав с неё ребристую нашлёпку, тянет прямо из горлышка. Дохлопав до дна, захвалился: – Кому и нельзяшко, а мне всё полная можность. Либо-что… Ни одна язва не связывается со мной. После чердака отродился я, в рост попёр. Дело кувыркается к старости, а я всё справней, а я все толстей. Живу в одно рыло! Раскраснелся, хоть прикуривай. Даже неловко перед тобой. Ты чего такой худючий? Форменный мешок с костьми… С лица белый, никак чахоткиной мучкой город тебя припорошил? Зудится в этом коробке, – тукнул себя по лбу, – одна мысля… Не знаю, как ты… Вижу, остонадоели тебе городские газы, перекочёвывай ко мне на вольное деревенское житие. А?! Гореспондент? Теснотиться не будем. Сараюшку эту, – подолбил пяткой в пол, – завалю, царскую хоромину выставлю. Два медведя угнездятся!.. Кругом леса. Ягодки, грибки все наши. О! Женю́! У Вояки роскошь дочка на возрасте. К свадьбе подарю тебе стального коника… мотоциклетку… Ну, что? Будет у нас свой докторь. Санушку – где-то по улицам шлёндает, домой днями не загоняется! – зашлю в институт по медицине. Выучу разнепременно и будет он нам с тобой без очереди уколы колоть. Благода-ать!..
Подбоченясь и подтанцовывая, Святцев прошёлся по простору комнаты и, неожиданно чуть припав на одну ногу, резко выбросил вперёд другую и быстро, сильно хлопнул под ней в ладоши. Это ему понравилось, и он, заполошно приседая, выбрасывая попеременно то одну, то другую ногу и хлопая, раза два обежал комнату и, оглаживая вислые, обрюзглые бока, восхищённо вымолвил:
– На старости в плясуны записался! Хошь, плясака дам!
Я рассеянно пожал плечами.
– Да что ты, Тоска Хлипыч, киснешь, как мёд?! Какой-то недоваренный, скушный… Любимушка! Иля у тебя либо-что болит? Болит – вот капнул на пальчик, – он пододвинул полный стакан, – прими один ограничитель, сожги боль и запляшем союзом! Ну! Дак что насчёт съезда? Не молчи. Мне это не в масть.
– Да ладно вам! – отмахнулся я.
– Ладно, а не пляшешь. Так что?
Что я мог ему ответить?
Я думал своё.
Думал, как подступиться к нему с разговором о письме, что снова привело в этот дом, сверху похожий на кляксу. Хотелось завести разговор ненароком, неназойливо, как бы нечаянно, по случаю случайно случившегося случая, что ли.
Но хода такого не выпадало.
Я молчал.
Моё молчание начинало его беспокоить, подкусывать.
– Ну что, писарюн, всё строгаешь? – не без сарказма спросил он, заметив торчащий из кармана пиджака блокнот. – Ну, строгай, строгай, – с каким-то жёлчным благодушием разрешил он. – Я твою газетину получаю. Всё читаю твоё. Страх сколь лепишь. Плодущой чертяка! Только не нравится, какой-то ты насуровленный. Я к тебе со всей нашей милостью. А ты, может, расчётец принёс за перышко-ножичек? За топорок?.. Ну, кидал, кидал я в тебя топорок. Так сколько тому лет! Пальцев на одной руке не наберёшь. С другой присчитывай.
– Прошёл всего год.
– У тебя свой счёт, у меня свой. По-оздно стрянулся, гореспондент… Года большие сбежали. Они давно-о мне амнистию дали… Так либо-что подчистую забывай всё вчерашнее. Я винюсь перед тобой… Вот глупинку сморозил… кидал… Дурень тот поп, что крестил меня, да забыл утопить… Несуразно таки верховодит людьми жизнь… Спасибо, парнишка ты добрый, простил все мои вытребеньки, не кинулся искать мне кары в мильтовне да в судах. А с другой стороны, ты молоденький, не мудр годами… Раскинь умком, ну как бы искал? Где свидетели? Дуня? Оттуда, – поднял палец кверху, – никакой повесткой в суд не дозовёшься… Санушка? Каков с дитяти спрос? А дело в лесу кто видел? Одна ночь да ветер? Хор-ро-ши-и свидетелёчки…
Я сделал вид, что не понимаю, о чём речь:
– Вы про какой топорок? Про какое лесное дело?
– А-а… Вспомни… Было дельцо… Ты первый раз прибегал к нам в Ищередь… Уходил по ночи… В ночном лесу метнул я в тебя топорок. Да промахнулся… Тем лучшей… Чего в задний след шуметь? Ты это лучше моего понимаешь. Оттого не то что по судам меня мазать, даже в газете и словом не обмолвился про тот же нож… Про то и не след шуметь… А вот в кузне я стахановский, на почётную доску грозятся повесить. Что об этом не прозвонить? Ты мне знакомый, закадычный, можно сказать, тёмный друг, а не напишешь. А мне в интерес про себя почитать…



