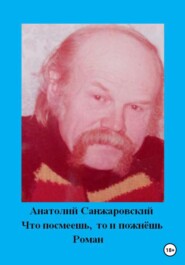 Полная версия
Полная версияЧто посмеешь, то и пожнёшь
– Слухами не пользуюсь.
– А напрасно. Зою Фёдоровну, терапевта из Ольшанки, вы, случайно, не знаете?
– Учился на одном курсе.
– Даже так? Я её ни разу не видел, не видел и вас до этой минуты. Зато сколько слышал легенд про вас про обоих. Сидит она в забытой Богом Ольшанке…
– Уж кем-кем, – с колким хохотком перебил меня Святцев, – а Богом Ольшанка не забыта. Там единственная в районе действующая церквушка…
– Сидит в глухой Ольшанке, а громкая слава исцелителя по всему краю катится. Из дальних деревень по непролазной грязи ползут к ней со своими охами да ахами. Вы королевствуете в райцентре. Но к вам очень-то валят?
– Баба с возу, кобыле легче.
– Не обольщайтесь. Вашей кобыле только мерещится, что ей легче. Неужели вы уже успели позабыть хотя бы выбрык с Разлукиной?
Святцев мрачно насторожился.
Наверное, он уже прослышал, что её сын принимает райкомовские дела. Как-то оно всё повернётся?
Вошёл Веденеев. Громоздкий, рукастый, в белом халате, в такой же белой шапочке.
В комнате стало светлей.
– Прошу великодушно простить. Непредвиденная жуткая чепешка… Пришлось разбираться…
Я согласно кивнул, вставая и освобождая ему его кресло. Он жестом велел оставаться на месте и сел у стены за спиной Святцева, расслабленно откинулся на спинку стула, уронил, будто неживые, руки, едва не касаясь тяжело налитыми пальцами пола.
Похоже, дело было трудное, он предельно устал, ему хотелось в эту минуту совсем малого – передохнуть, отойти, и это возвращение в себя, эта не видная постороннему глазу работа в нём шла, шла сама собой и поторопить её никто не мог.
Как-то отсутствующе смотрел он прямо перед собой и, наверное, закрыл бы в отдыхе глаза, катнув голову по верху спинки стула, не будь в кабинете нас со Святцевым. Всем своим видом он говорил: я обещал быть – я тут, однако меня покуда нет для вас, для вашего разговора, и вы уж, пожалуйста, не тяните меня силою в ваш спор, всё равно пока толку мало; я просто присутствую, разве этого с вас не хватит?
Мы со Святцевым заговорили тише.
Подавшись в его сторону, так что он только один мог слышать, я спросил, что и когда он кончал.
– Это допрос? – неожиданно взвился Святцев.
Веденеев выпрямился, слабо отлепившись от спинки. Устало, непонимающе посмотрел на Святцева.
– Это что, допрос? – повторил Святцев.
– Вопрос, – ответил я.
Святцев повернулся к Веденееву.
– Я должен отвечать? Должен? Это не трибунал![218]
– Сан Саныч, – Веденеев положил руку Святцеву на плечо, – Сан Саныч, люди отвечают за свои дела не только в милиции. Я, например, не вижу никакого криминала в вопросе товарища. У товарища вполне приличный вопрос. У вас есть вполне приличный ответ. Скажите в виде интервью, что в прошлом году с отличием окончили мединститут. Вас оставляли при аспирантуре… Скажите наконец, что проявили высокую гражданскую сознательность, не кинулись в абсиранты, не разбежались на ту аспирантуру, махнули вот в глушь – не в Саратов! – лечить славных тружеников села… – Веденеев взял со стола мамину карту. – Вам, голубчик, да нечего сказать? Сомневаться не приходится, знания свежачок. С пылу, с жару! Батенька! Да советская медицина – лучшая в мире!
– Наверно, поэтому, – кивнул я в сторону Святцева, – за двадцать дней так и не смог установить диагноз?
Святцев защитительно, ладонями вперёд, выставил руки:
– Да у старухи всё болит. Даже платок на голове! Установи!
– А чего сто́ит безошибочно-универсальный диагноз: по старости? А молодым тогда какой ставите? По молодости?.. А отношение? Да выслушай человека, объясни по-божески – и мёртвый уйдёт полуживым.
– Да, в нашем деле отношение – особая статья, – задумчиво покивал Веденеев, не отрывая глаз от маминой карты. – А это, – обращаясь к Святцеву, ткнул пальцем в запись, – достаточно?
Румянец полился по лицу Святцева.
Он нерешительно повёл плечом.
Я привстал посмотреть, о какой именно записи шла речь. Веденеев на вздохе перевернул страницу, другую, третью, делая вид, что никакой оплошности-де не заметил он да и не мог заметить, а смотрит карту так просто, из скуки, в подтверждение чего даже, пожалуйста, зевнул в кулак. Однако зевнул внатяжку, деланно.
– Что показалось вам недостаточным? – в лоб спросил я Веденеева.
– Да так, мелочуга… Сло́ва, поверьте, не сто́ит, – уклончиво буркнул он и сунул карту к себе в накладной широкий карман халата.
Во мне что-то ёкнуло.
Интуитивно я почувствовал, что токи тайны побежали от Веденеева к Святцеву, от Святцева к Веденееву. Но что они скрывали, я никогда не узна́ю. Будь тут Глеб, очевидец, наверняка докопались бы мы с ним до какого-нибудь неопровержимого святцевского художества. А так усиди меж двух стульев… Сам ничего толком не знаешь о деле, повоюй с этими матёрыми таблетологами!
Будто шилом поддел меня их заговор.
– Конечно! – встал я мятежом. – Чужая болячка душу не рвёт. Оттого она и слова не стоит! Четвёртого брат приводил мать на приём, домой нёс на руках, сама не могла идти. Шестого…
– Шестого она у меня не была! – торопливо обогнал меня словами Святцев. – У меня не записано. Значит, не была!
– Зато приходил брат. Сказал, что в боку у неё меньше колет, так встать не может. Что вы на это сказали? «Будет хуже, положим». Куда ж ещё хуже? Больная у ж е не встаёт.
– Не мог я так сказать. Да я и не помню, был ли брат у меня шестого. У меня в день до полусотни народу пробегает!
– Не слишком ли многое он не помнит? – уставился я на Веденеева. – Прямо какой-то юный склеротик. Просто такому в жизни. Оскорбил человека, тут же забыл. Душа молчит, не болит. Другого равнодушием дожал до крайности, спихнул в Ольшанку и спокойненько вытер белы рученьки. Слава Богу, к надёжным людям попали и Борисовна, и мама. Их вылечат, подымут. Но где гарантия, что другие старухи не окажутся на их полозу? И потом. Почему в Ольшанке полбольницы старики и старухи из Гнилуши и её округи? Почему их не лечат на месте? В райцентре?
– Мой ласковый! – Веденеев тихонько взял меня под руку, подвёл к окну. – Видите во-он то нарядное зданьице? Там райком. Его все чаще рейхстагом навеличивают. Если вы такой любопытный, пойдите и задайте свой сакраментальный вопрос там. А мы уже задавали. Нам ясно ответили: райбольницу, где и оборудование, естественно, получше и с медикаментами побогаче, чем в любой сельской больничке, не превращать в райбогадельню, в пресловутый дом престарелых. Нам предписано в темпе лечить потенциальных тружеников, кто даёт хлеб, мясо, молоко ну и так далее. А пенсов, пенсионерскую рать – мест у нас невдохват – правим в ту же Ольшанку. Понятно, это не выход. Но раз велено… Мы и берём под козырек. Слушаюсь! Нам тоже хочется спокойно кушать свой хлеб с маслом.
– За счёт стариков и старух, которыми, как бочка обручами, держался район не одно десятилетие? И ничто в вас ни разу не запротестовало? Не заругалось?
– Не-е… Люди мы воспитанные… – Святцев взял с колен шляпу за куполок, мягко поднёс к груди.
Однако в его голосе была какая-то закаменелая вежливость.
– Да заартачься, допустим, я, – Веденеев сплёл большие руки на груди, – сядет на моё место другой. Без прений будет делать, что скажут. Нерентабельно вздорить с начальством.
– А вы пробовали?
Мой вопрос потонул в тревоге телефонной трели.
Трубку снял Веденеев.
Говорившего он узнал сразу. Кровь отхлынула от веденеевского лица.
– Да!.. Да!!.. Да!!!.. Да-а!..
Некоролевский у главного репертуарчик… Хватает одного короткого, как выстрел, слова.
– Да!.. Да!.. Да!.. – продолжал принципиально вести разговор Веденеев, побелев как лист. – Да!.. Слушаюсь!.. Бегу на всех рысях!
Веденеев бросил трубку и, быстро одеваясь, вспылил:
– Это не райком! А сущий адком! Или дергком… Без конца дёргают! Не дают работать. Ну вчера же вызывали! Воспитывали с многопартийным матюжком до посинения. Воспитывали и учили успешно лечить. Недоучили…Недовоспитали… Лети в этот рейхстаг снова на ковёр!
В прощанье он помотал нам со Святцевым шапкой:
– Ну, миряне! Я побежал на партэшафон! Вторая серия… Пожелайте мне верёвки потолще! И – гнилой…
В кабинете выстоялась густая, вязкая духота, что, поди, и архимощным вентилятором не разбить.
Я расстегнул ворот. Прохлада не брала меня.
Медленно, обмякло поднял я взор на Святцева.
Злобой налитые глаза смотрели в упор.
– Неужели, – лихорадочно комкая шляпу, сквозь зубы выдавливал он из себя хриплые слова, – неужели не существует в природе предела человеческой жестокости? Вы – машина-ад! Забрали мать!.. Забрали отца!.. Мало! Подавай и меня! Под-давитесь!
Я обомлел.
– Да вы что? Какая мать? Какой ещё отец? Я вас впервые-то вижу!
– Как же! Очень даже впервые! И какой же я болван – заорал тогда! Теперь бы вы не сидели тут! – долбнул кулаком в стол. – Не сидели!!!
Я начинал о чём-то притушенно догадываться:
– Где было это тогда?
– В Нижней Ищереди. Нужны доказательства? Будут!
Потрясая зажатой в кулаке скомканной шляпой, Святцев выскочил из кабинета и с такой свирепостью саданул дверью, что с потолка сломилась пластинка побелки и прахом брызнула по полу.
Как же всё это было тогда?
Как?
Глава девятая
Дай сердцу волю, заведёт в неволю.
Предательством счастья не добудешь.
1
А свертелось это в командировке.
Давали мне на командировку три дня, я ужался в один.
Помню, я безбожно спешил.
Не сегодня-завтра распустит март взломную полую воду. Кукуй тогда до второго пришествия!
К последнему перед распутицей самолёту я успел.
Я располагал ещё десятью минутами, но не располагал билетом до областного города. Билетов в кассе не было. Придёт самолёт, потолкую с пилотом. Может, и возьмёт.
Благополучно «Аннушка» села на площадку, где вода доедала снег и местами сыто раскатилась уже поверх снега.
Вышел, расправляя тугие плечи, пилот и заспешил к хатке аэровокзальчика.
– Ну чего же ты? – кольнул в меня нетерпячим взглядом дедок с живыми петухами в плетёнке, невесть как почуявший моё безбилетье. – Не лови снегирей. Налетай с молитвой на пилотчика.
С пилотом я удивительно скоро нашёл общий язык.
– Ладушки, беру. Там-то, – потыкал он указательным пальцем в небо, – на контролёриков не напоремся.
В самолёте я сел рядом со стариком.
Он разошёлся в блаженной улыбке:
– Добруха наша «Анютка». В горе никого не спокинет… А я про тебя спервача худость подумал. Думаю, а чего это он обробелый, опасливый такой… Навроде, извиняй, Святцева…
Старика, вижу, тянуло в охотку поговорить с незнакомым попутчиком, я и спроси:
– Кто этот Святцев?
– А! Долго ежель всё распевать… Драпанул шкурёнок с фронта! Мало такому хрюкальник начистить. Двадцать одно ж лето как есть укрывался у себя на чердаке да в подполе.
– И – живой?!
– А что с ним подеется? Таких земля не примает.
– Живёт где?
– На-аш паразит… В Нижней Ищереди. Двадцать вёрст отседушки.
Пилот втянул сходцы, отшагнул с ними к хвосту.
Не мешкая, толкнулся я ещё в открытую дверь.
Неужели я увижу некиношного, живого дезертира? Жи-во-го!?
Эта гнида заслонилась от беды чужими жизнями, заслонилась и жизнью моего отца.
Нет двадцати восьми миллионов, нет отца.
Зато есть Россия, широкая, непокорённая, свободная. Положила Россия за свою волю цену страшную, на рубли не идущую…
Зато есть мы в России. Но – есть и он!
Это справедливо, что есть и он?
Пускай его простил закон. А память погибших?
Я слуга этой памяти. Я сделаю то малое, что могу. Напишу о трусе, и это будет возмездие, и возмездие грянет во сто крат сильней, поставь я рядом на одной полосе в газете два очерка. Один про Героя, кто прошёл Бухенвальд (я приезжал к Герою недели две назад, очерк о нём был уже написан, ждал публикации), другой про Святцева.
И пускай потом читают, и пускай сравнивают, и пускай дивятся, что же это за дичинка человек.
Санная дорога змеилась, виляла, неправдоподобно вязала узоры с причудой, будто хотела, чтоб я потерялся в этом безмолвном белом кружеве и никогда не добежал до Нижней Ищереди. Я и впрямь то и дело терял под ногами твердь сбитого лошадьми пути, без конца плутал по целику поля, чистого, как листок, покуда снова не попадал на дорогу.
На мои расспросы, как быстрей добраться до Нижней Ищереди, почтарь со встречных розвальчатых саней – из-под полсти глядел хохолок с сургучной печаткой – остановился. Зачем-то степенно снял малахай, потом старые очки на резинке. Одно коричневое, в трещинках, колесико, я заметил, было пустое, без стекла.
Он потёр переносицу и заговорил:
– Нет пути способней прямого, птичьего. Будешь, размахайлова десятка, – при ходьбе я размахивал руками, почтарь углядел это, – будешь считать петляки, – клюнул кнутовищем в санную колейку, – до утра не поспеешь. Ломи, молодик, по прямушке. Спервоха вото так, полем, там через кустарничек… Уже у самой у деревухи малость леском… Струни шаг так, чтоб с полудня солнце в лицо било.
Этот почтовик был единственный, кого я встретил за всю дорогу.
На возвышенках наст лежал уже без силы, совсем не держал. На таких местах я раз по разу не до колен ли ухал в налитый водой снег, отчего, пробежав немного, валился на спину и, не разуваясь, хлопал ботинком о ботинок, выколачивал снег.
Делал я это лишь поначалу.
Вскоре ноги намокли, я перестал выбивать, выгадывая время на саму дорогу.
Вечер снимал с зари последние блёклые румяна, когда я добежал до похожей на кляксу косо стоявшей хаты с прохудалой крышей, что уже кой-где взялась мхом, – вот где обитал этот птах! – поскрёб негнущейся с мороза пятернёй в низ шибки.
Минуты через три осторожно приотворилась дверь, по грудь вывалилась дебелая тетёха в чёрном.
– Александр Акимович Святцев здесь живёт?
– Не знаю такого! Не знаю!..
Женщина отшатнулась, быстро захлопнула дверь.
Но отойти не отошла.
Слышу, стоит по ту сторону, выжидает.
Прерывистый тихий сап выдавал её.
– Ну что? Так и будете сопеть?
– А ты чей? – опасливо отозвалась она, помедлив.
– Может, вам через дверь биографию рассказать?
– Ладнотько, входи…
Клацнул выключатель.
С яркого света – лампочка была разогромная, не с чугунок ли перевёрнутый – заломило глаза.
Отступив в сторону, женщина в чёрном со злобным замешательством уставилась на меня.
– Воробейка мне в окно всё тукал… Вот и натукамши… На кой те Акимыч? И кто ты таков, сумеречный гость? Что вашему пригожеству до нашего убожества?
Я подал редакционное удостоверение, потянул руки к теплу печки.
– Не-е! – загремела бабка, пряча мое удостоверение где-то у себя под фуфайкой на груди. – Ты, орёлец, к печке не прилабунивайся. Свожу-ка я тебя к сельскому. Пускай твои бумажки на свет возглядит!
Смотрины у сельского головы прошли безынцидентно.
– Только ночевать – ко мне! – полуприказал он с какой-то неясной настойчивостью, возвращая мне удостоверение. – Слышите? Ко мне!.. Авдотья, под твою личную ответственность. Сама приведёшь товарища.
– А то что ж… Не врагиня себе… Нешь положу с собой, – сердито буркнула Авдотья, поталкивая тёмный платок на самые глаза и забирая к выходу. – Разносила тут нелёгкая…
Во всю обратную дорогу Авдотья не сронила ни слова. Не заговаривала и в избе у себя, возясь у огня, домашничая.
Меня она не видела.
Я не существовал для неё.
2
Святцевское жильё занимало половину избы.
В другой половине, за сквозным проходом на улицу и в глухой двор, жила живность.
Оттуда доносилось неспокойное мычанье коровы.
На время она затихала, услышав ответ недельной телочки, что свернулась у моих ног на щелястом полу возле печки.
Жилая комната была просторная, хоть зайцев гоняй и небывало бедная. Почернелые, потрескавшиеся рёбра брёвен в стенах пусты, во множестве мест их побил жук, пересыпал своей мукой.
Самодельный стол обступили сиротами такие же самодельные табуреты и лавка. Единственную кровать с тусклыми шариками прикрывало старое одеяло из цветных лоскутов.
Сверху, с печи, из-за серой вовнутрь чуть заломленной с угла шторки за мной поражённо следила пара детских цепких глаз.
Я делал вид, что никакого наблюдения за собой и не подозреваю.
Авдотья вышла к корове с ведром намешанного тёплого пойла, и я громким шёпотом ухнул:
– Эй! На лежанке! Ты кто? Мальчик или девочка?
Угол шторки упал.
– Санёка я. Мальчик, должно…
– Откуда ты знаешь?
– Мамка говорела.
– А ты без мамки знаешь, в какую пору у вас ужинают?
– А как чужие уберутся, так и садовятся.
Без дальних подходов-переходов я сознался вернувшейся Авдотье, что со вчера не ел.
– А чего вы мне докладаете? Разь у меня сельповский трактир? Иль вы мне родствие какое?
– Да вы не думайте. Я не за спасибо…
Я дал ей две монетки по двадцать копеек.
– Ой, толенько? Всего-то две белые копеюшки? Дешёво ставите мой стол.
Я подал рубль.
Уголки полных губ тронула уступчивая усмешка.
– Эт-та бумажка нас смирит…
Вскоре Авдотья вынесла из-за печки стакан молока, прикрытый ломтем хлеба.
– Я лишнего не возьму. Это вотушки вам, – разжала другую руку, – в сдачу полжмени жёлтых копеюх.
Но сдачу она сразу не отдала.
Наладилась пересчитывать.
Пересчитывая, жалобно причитала, звякая однушками:
– У нас, в деревне, копейка рублём ходит. Не то что у вас… По городам бабашки[219] дурные бегают. Думаешь, и к нам оне дуриком добегают? На той вон неделе иездила у город. То-ольк от автобуса через улиньку переползла – сюрчит мильцанер. Не тамочки перейшла! Я труды клала, переходила, меня ещё и штрахонул! Я говорю: «Я могу перейтить, где ты возжалаешь. Тогда ты мне штраф отдашь?» Усмехается, изливает бодрость. Что-то чирк-чирк в книжечке, отодрал один листок, мне сует: «Давай, бабка, меняться. Ты мне рубль, я тебе квитанцию». Убоялась я с милицией тягаться. Выменял за квиточек, – там не на что глянуть! – рублевича! Содрал полную рублину. Как с городской! Это надо такое безобразие уквасить? Один разор…
Я уже отужинал.
А она всё пересчитывала не в третий ли раз.
Руки у неё вспотели.
Мокрые от пота однушки липли к пальцам, к ладони, и когда Авдотья, вздохнув глубоко, во все, наверное, большие, точно у коровы, лёгкие, – как ни жалко, а отдай объявленную сдачу! – разжала над моей рукой кулак, ни одна прилиплая к ладони копейка не упала.
Авдотья коротко, боязно тряхнула – копейки не падали, будто сидели на хорошем клею.
Она повернула кверху раскрытую ладонь.
Ладонь светилась золотыми блёстками монеток, словно кусочек неба в звёздах.
– Копейка служит рублю… Без копейки нету рубчика… Наша копейка знает хозяйку, – Авдотья, не убирала зачарованных, горьких глаз с налипших монеток. – Уходит тяжко, навовсе нейдёт…
– Не идёт, ну и не гоните силком, – взял я сторону её прозрачного намёка. – Оставьте при себе. В хозяйстве сгодится.
Добрая сила пустячной уступки сломала в Авдотье что-то такое, отчего в её злобе уже не было первоначальной полноты.
Помалу мягчел суровый, отчуждённый взгляд.
Наконец нечаянная глубинная улыбка не улыбка, а так, отсвет улыбки накатился на лицо и тут же, однако, пропал. Выстрожилась она лицом, но не на веки вечные, на минуту какую, и снова – я молча наблюдал за нею, – тайная, далёкая усмешка скользнула по устам при встрече глаз.
Я осмелел. Снял ботинки. Сел на табуретку и прижался пятками в мокрых носках к тёплому низу печки.
– Ну что? Сухо по самое ухо? – покладистым, покорным голосом спросила Авдотья, чёрной горушкой прилепливаясь на кровати, ближе к спинке, со спицами в руках. – И-и, велика ль нуждица гнала к нам?.. Неужле из-за одного Акимыча моего?
Я кивнул.
– Чести, чести-то что! Ну, упекёшь. Велик с того тебе наварко? – и, косясь на дверь, будто кто оттуда мог подслушать, сбавила голос, просительно зашептала: – Вдарь всё это побоку… Чего, добруша, привязываться?.. Чего пиявиться к человеку? У нас то и богатствия, – кивнула на стену, – что сучки в брёвнах да дожди без конца… Ну, вышло ему какое-то затемнение, безо время с фронта притилипал… Что тепере?
Сухо лязгнула щеколда.
И – немо. Ни шагов, ни голоса.
Я вслушался в тишину.
В проходе, что делил дом на две части, кто-то, кажется, был.
Я сказал об этом Авдотье.
Авдотья устало, с донной грустью пояснила:
– Са-ам крадется к себе у хату… Это Санькя, – подняла глаза на верх печки, откуда, высмелев, ликующе таращился мальчишка; похоже, чужой человек в его доме был ему в большую диковину, – это Санькя, когда летит у хату, в преисподней слыхать. Со страху от такого грома хоть крестись. А отца жизнюка вышколила ходить по землюшке уважительно, на одних коготочках. Всяк ходит, как может…
За её словами я и не заметил, откуда взялся на пороге человек. Я не слышал, как он открывал дверь, как входил, как закрывал дверь. Чудилось, ничего этого он не делал, а прошёл невидимкой сквозь дверь и, попав с ночи, с темна под яркий свет, козырьком вскинул над собой короткую, полную, вроде клешни, руку в загвазданном фуфаечном рукаве, давая глазам свыкнуться со светом.
После нескольких мгновений он опустил руку, послал было вперёд и шаг, и два, но, завидев незнакомца, остановился в нерешительности, спрашивая всполошившимися глазами Авдотью: кто это?
– По твою, отец, душу… Какой-то писарь-мисарь…
Он затравленно покосился на дверь и, сглотнув слюну, обречённо двинулся к середине комнаты, не с порога ли выставив руку поздороваться.
Мелкорослый, обрюзгший, как гриб, круглый от нездоровой полноты, он шёл как-то боком, будто разведывая, ступал не на всю ступню, а только на начало её, на пальцы, – крадучись. В маленьком, с кулак, землистом лице с неправдоподобно крупным мясистым носом, в красных, как у крота, глазах-слепышах бился, мерцал страх, вскормленный долгими годами укрывательства.
Жалость кольнула меня.
Безотчётно-торопливо я подхватил его опускавшуюся протянутую руку, не уверенную, ударят по ней или пожмут её, давнул её и почему-то не выпустил сразу, а подержал, точно давая время перелиться моему теплу в его зяблую с холода руку, рыхлую и осклизлую от пота. Мне хотелось сблизка рассмотреть этого человека, который, казалось мне, не потому ли только и жив, что мёртв мой отец, остановивший в себе пулю, предназначавшуюся, может быть, этому человеку со студливыми руками?
3
– Надо бы к столу перейти. Записать…
– Ничего. Сядите у огня. Либо-что… Стол у нас не гордый. Сам к вам перейдёт. С-сам… – С неприятным детски откровенным услужением Святцев притаранил к печке стол, локтем махнул по столу: – Записуйте за этим царём!
– Стол – царь?
– А кто жа? Стол кормит, стол силу даёт…
Я не слишком доверяю своей памяти, я верю только бумаге, оттого всё несу в блокнот. Пока сядешь отписываться, сольётся какой-то срок. Что-то забудется, выпадет, выронится из ума, что-то не бывшее примерещится от времени, от дальности, а ты и подай всё то за чистую монету?
Как-никак, на монете на той сутолока послекомандировочных дней наверняка уже поднасорила, мимо воли подмешала своего домысла, пускай сыпнула какие там жалкие крохи, а всё одно сдуй те крохи с газетного листа на человека – обида невозможная, обида крайняя. Пускай, записывая, я терял на искренности рассказчика, зато не терял и малого в достоверности.
Из потайного кармана полупальто я достал блокнот.
Святцев, примостившийся было напротив, потихоньку поднялся и, не снимая сторожких глаз с толстого, в палец, блокнота, опало, потерянно-вкрадчиво скривил рот в мученической улыбке.
– Мы люди не с норкой. Либо-что… Побудем и стоявши…
В голосе у него не было ни силы, ни ясности.
Говорил он глухо, с надломом.
– Да вы что, на допросе – стоять?
– А нешто нет?.. Рубните напрямки – заберёте, начальник?
– Куда? Какой я начальник? Я всего-навсего из газеты.
В недоверчивости хмыкнул он:
– Раз пишете – нача-а-альник…
Вот ещё новости на палочке!
Даже Авдотью подожгла эта начальственная карусель.
– Ей-бо, – шумнула с укоризной, – иль тебя, отец, заело в начальниковой колее? Никак не выедешь, рохлец? Раз пишет, видали, – начальник… Какой же ты пустоколый! Ну прям, извиняй, глупый всем ростом! Да по нашей по грамотной поре одна кошка и не пишет! Хватни сам карандаш, черкни чо-нить в тетрадину… Что ж ты, стал быть, начальник уже? Не видал ты настоящего начальства! Даве приезжал вон потребитель… Из райсоюза… Во-о начальник так начальник. Пузень – на отдельной повозке надо попереде везть! А где ты видал заморённое начальство? – качнулась в мою сторону. – Где? Где ты видал, чтоб начальство из района к нам пéшки по беспутью скакало? Где?

