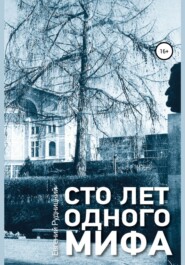 Полная версия
Полная версияСто лет одного мифа
Заискивание перед Козимой вполне понятно: вскоре после отъезда своего самого верного капельмейстера, человека, которого она сама возвысила и вывела в первые ряды вагнеровских исполнителей, Козима узнала, что тот успел заключить договор на занятие должности генералмузикдиректора в Мюнхене и будет теперь работать с ее врагом Поссартом. Она горько упрекала Мотля в письме, отправленном 15 декабря 1903 года, то есть за пять дней до нью-йоркской премьеры Парсифаля, одновременно проклиная собственную судьбу: «Почему должно было так случиться, что Вы отправились в Америку именно в тот год, когда там оскверняют Парсифаля… Почему Вы отправляетесь из Карлсруэ именно в Мюнхен? И если Вы так много перенесли и вытерпели, почему же Вы больше не выносите Карлсруэ?» Ведь все его жалобы на судьбу оказались притворством! Единственный выход из создавшегося положения она видела в том, чтобы Мотль, по крайней мере, «перепрофилировал» мюнхенский вагнеровский театр и не делал из него конкурента Дому торжественных представлений: «Если Вам посчастливится избежать превращения Театра принца-регента в фестивальную сцену и использовать его по другому назначению, я смогу воспринять ваше назначение как божественный промысел». Наивная надежда! Мотль отправлялся в Мюнхен как раз для того, чтобы упрочить там свою репутацию лучшего вагнеровского дирижера.
Опасения Вагнеров были не напрасны: после исполнения Парсифаля в Нью-Йорке им заинтересовались и другие страны, не присоединившиеся к Бернской конвенции. Через два с половиной года после американской премьеры – 20 июня 1905 года – состоялось концертное исполнение Парсифаля в Амстердаме; дирижировал энтузиаст творчества Вагнера Генри Виотта.
* * *На фестивале 1904 года Парсифаля исполняли уже зарекомендовавший себя в качестве вагнеровского исполнителя Карл Мук и работавший до этого в Байройте в качестве ассистента Михаэль Баллинг. Мук родился в семье министерского чиновника высокого ранга и учился на филолога в университетах Гейдельберга и Лейпцига и даже получил докторскую степень. Одновременно он брал уроки фортепиано и выступал с лейпцигским Гевандхаузом по приглашению главного дирижера оркестра Карла Райнеке. С 1901 года он стал одним из ведущих капельмейстеров Дома торжественных представлений, прославившись главным образом в качестве основного дирижера Парсифаля. В Советском Союзе фирма «Мелодия» выпустила грампластинку в серии «Из сокровищницы мирового исполнительского искусства» с его записями симфонических эпизодов сценической мистерии. В Байройте Мук выступал до 1930 года, и одной из его обязанностей был подбор музыкантов для фестивального оркестра. В этом качестве он придерживался выработанной Козимой Вагнер и Феликсом Мотлем традиции ограничения к доступу на Зеленый холм евреев. Примерно та же история, что и с упомянутым выше скрипачом Арнольдом Розе (который перестал выступать в Байройте после 1896 года), повторилась с его коллегой Вилли Гессом. Этого замечательного исполнителя, еще в подростковом возрасте собиравшего полные залы, а потом выступавшего в качестве концертмейстера во Франкфурте, Кёльне и Манчестере и преподававшего во многих высших школах Германии, рекомендовал в 1902 году хорошо знавший его по Манчестеру Ганс Рихтер. Однако Феликс Мотль, Карл Мук и Юлиус Книзе воспрепятствовали его назначению. После того как вместо Гесса взяли игравшего в то время в Майнингенской капелле Карла Вендлинга, Мотль с воодушевлением писал Козиме: «Я очень рад, что у нас Вендлинг! Он хороший, настоящий немецкий музыкант! Несмотря на манчестерский совет, еврей Вилли (!!) Гесс был бы для меня ужасен!» Михаэль Баллинг, бывший семью годами моложе Карла Мука, в отличие от него, родился в бедной многодетной семье литографа в предместье Вюрцбурга Хайдингсфельд и не имел возможности получить такое же блестящее образование. Он закончил местную Высшую музыкальную школу по классу альта и играл в различных оркестрах, пробуя свои силы также в качестве дирижера. В Байройте Мотль отличил его среди прочих оркестрантов и сделал в 1896 своим ассистентом, тем самым открыв ему дорогу к блестящей европейской карьере. После того как Баллинг начал дирижировать на фестивалях, его по рекомендации Мотля назначили генералмузикдиректором в Карлсруэ, а с 1907 года он возглавил манчестерский Халле-оркестр, сменив Ганса Рихтера.
На фестивале 1904 года Зигфрид дирижировал возобновленным Тангейзером. Разумеется, сыну Мастера хотелось сделать совершенно новую постановку, однако для этого требовались слишком большие затраты. Поэтому он ограничился корректировкой некоторых сценических эффектов и мизансцен, связанных в основном с хорами. Музыкальный критик Леопольд Шмидт писал в газете Berliner Tageblatt: «Новое в этой постановке заключалось… в более тонкой передаче переходов… это было особенно заметно во время преображения горы Хёрзельберг в долину Вартбурга, когда переход Тангейзера от лихорадочных фантазий любовной страсти к реальности выглядел в большей мере психологическим феноменом, нежели театральным эффектом…» На него произвело впечатление и то, что имеет место в заключительной сцене и обычно «проходит незамеченным, но в Байройте становится важным событием и особенно будоражит зрителей; эффект достигается благодаря организации мизансцены – на первый план выдвигается скромно стоявший до того в кулисе приглушенный женский хор, – а также, и даже в еще большей степени, благодаря затаенному, шепчущему звучанию хора, повествующего об этом событии». Но самой интересной новацией в тот год стала хореография сцены вакханалии, осуществленная уже широко известной в Европе американской танцовщицей Айседорой Дункан. Ее пригласили в Байройт по предложению Генри Тоде, который познакомился с ней годом раньше во время ее гастролей в Германии. Козиму не особенно волновало, что ее зять по уши влюбился в прославленную танцовщицу: она уже давно смирилась с тем, что ее старшая дочь состоит в фиктивном браке и супруги соблюдают лишь внешние приличия. Впрочем, и сама Даниэла относилась к многочисленным любовным приключениям супруга достаточно равнодушно; так, по поводу его скандального увлечения графиней Гизелой Пуртале, которого не удалось скрыть, она еще в 1892 году писала: «Его новая маленькая страсть доставила мне большую радость. Мы, женщины, должны позволять своим мужьям подобные приключения хотя бы ради сохранения престижа нашего пола: нам и так хватает поводов для мелких придирок и назойливых претензий, которых нужно научиться избегать любой жене». Когда Айседора приходила в гости к супругам Тоде в Гейдельберге, она встречала там самый радушный прием. Впрочем, в своих мемуарах она настаивала, что ее отношения с Генри были чисто платоническими: «Тоде склоняется надо мной и целует мои глаза, мой лоб, но в его поцелуях нет никакой земной страсти… Он покидал меня только на рассвете и каждый раз вечером возвращался… это приключение носило платонический характер: хотя он знал, что я ему принадлежу до последнего удара пульса, он ни разу не попытался снять с меня тунику, дотронуться до моей груди или насладиться моим телом». Если верить ее воспоминаниям, они ночи напролет читали Божественную комедию Данте и беседовали об искусстве: «Он покорил меня своим лучезарным взором, от которого кругом все как будто становилось светлее, и дух мой на легких крыльях возносился к небесам… Он настолько безраздельно владел моей душой, что мне иногда казалось верхом счастья просто смотреть ему в глаза». Те, кто знал Генри Тоде и Айседору Дункан, читали эти воспоминания с большим недоверием. Несколько позже она познакомилась в Берлине и с Зигфридом: «Его облик напомнил великого маэстро, чьи творения мне только начали открываться: тот же выпуклый лоб, тот же резко очерченный нос… Он присоединился к нашему кружку, и я впервые имела удовольствие восторгаться тем, кто отныне должен был войти в число моих самых дорогих друзей. Его речь была блестящей и полной воспоминаний о великом отце, которые, казалось, витали над ним, как священное сияние над головой праведника». Однако, в отличие от своего зятя, Зигфрид не испытывал к обворожительной Айседоре никаких нежных чувств («он демонстрировал мне свою братскую преданность и постоянно вел себя как верный друг, но не было никаких признаков того, что он подарит мне свою любовь»), и все его рассказы были вызваны, скорее всего, желанием увлечь будущую постановщицу балетной сцены творчеством своего отца. Сомнительно, однако, чтобы Айседора Дункан прониклась идеями Мастера достаточно глубоко; скорее ее увлекала открывшаяся ей в рассказах Вагнера-сына рыцарская романтика Тангейзера и Лоэнгрина.
Приехав в июне в Байройт, Айседора очаровала обитателей Ванфрида, исполнив перед ними вальс из Герцога-вертопраха, а потом поселилась в охотничьем домике под названием Филипсруэ; там она проводила вечера в окружении многочисленных поклонников, в числе которых оказался и посетивший Байройт будущий болгарский царь, а в то время еще князь Фердинанд. Он, разумеется, тоже влюбился в танцовщицу и выразил свое восхищение как ее искусством, так и недавно появившейся книгой Танец будущего, которую успел прочесть. Узнав о ее мечте возродить искусство античного танца, он тут же пригласил ее организовать в его резиденции на Черном море балетную школу. Толпа поклонников, окружавшая Айседору Дункан в Байройте, все же не помешала ей блестяще справиться с поставленной перед ней задачей в Доме торжественных представлений: Тангейзер в усовершенствованной режиссуре Зигфрида и с балетной сценой, поставленной мастерицей античных стилизаций, в самом деле вызвал небывалое восхищение публики.
* * *С весны Зигфрид активно работал также над партитурой своей следующей оперы Весельчак, либретто которой он написал еще в прошлом году. Эта опера не раз ставила в тупик поклонников композитора, пытавшихся разобраться, кого автор подразумевает под различными персонажами. Считают, что скрывающийся от властей и выдающий себя за волшебника Генрих по прозвищу Весельчак – alter ego самого Зигфрида (кроме всего прочего, ему по ходу дела приходится переодеваться в женскую одежду), а под старой свахой Урмой подразумевается Козима. Персонаж по имени Конрад не может, подобно зятю композитора Байдлеру, жениться по любви. Кроме того, Генриха в опере называют Хайнц, то есть так же, как и зятя Зигфрида Генри Тоде. Многие сюжетные линии связаны с народными поверьями – в ночь на святого Андрея девушки гадают вместе с Урмой на женихов, бургомистр казнит виновного в разврате петушка, а бросившаяся в костер Урма превращается в черного ворона. К тому же в первом варианте оперы священник совращал сестру главного героя и та, узнав о своей беременности, хотела утопиться: еще один излюбленный мотив Зигфрида, рефлексирующего по поводу рождения незаконного сына, только здесь пострадавшей стороной оказывается сестра героя, а виновником ее горя – нечестивый священник. Возможно, поменявшись местами с обманутым мужем, композитор подсознательно хотел облегчить муки своей совести. Однако Зигфрид, по-видимому, решил, что намеков на личные обстоятельства и так слишком много, и исключил этот мотив из окончательной версии.
После фестиваля 1904 года Зигфрид провел две недели в швейцарском городке Тун. Там, еще не завершив партитуру Весельчака, он, по своему обыкновению, уже работал над окончанием либретто своей пятой оперы Повеление звезд. После этого он до конца октября, уже живя в венецианском отеле «Милан», занимался сочинением музыки третьего действия Весельчака. Конец года прошел в разъездах. В Варшаве он дал концерт, а в Новом немецком театре Праги, возглавляемом Анджело Нойманом, дирижировал тамошней премьерой Кобольда. После небольшого перерыва он дирижировал представлением Кобольда в Граце, а потом дал концерт в Штутгарте, в программу которого включил отрывки из того же Кобольда и Медвежьей шкуры. В начале 1905 года состоялась премьера Кобольда в венском Императорском юбилейном городском театре (теперешней Фольксопере) под управлением известного дирижера и композитора Александра Цемлинского. Исследователь творчества Зигфрида Вагнера и постановщик нескольких его опер Петер Пахль находит много точек соприкосновения между творческими устремлениями двух композиторов. В 1900 году, то есть через год после Медвежьей шкуры, Цемлинский написал оперу на сказочный сюжет Давным-давно, а во время постановки Кобольда он как раз работал над оперой Гёрге-мечтатель, где, подобно Зигфриду Вагнеру, пытался, как пишет Пахль, «установить баланс между подчеркнуто социальной критикой реальности и дремлющими в человеческом подсознании мотивами сказок и мифов». Впоследствии Цемлинский сочинил еще одну оперу-сказку на собственный сюжет – По одежке встречают. В Вене Зигфрид не только присутствовал на последних репетициях, но и продирижировал несколькими представлениями. После этого он отдыхал в Монте-Карло, завершил в Риме оркестровку Весельчака (последняя запись в партитуре: «Рим 3.4.1905, Виа Кондотти, 75»), а через одиннадцать дней закончил в Ницце либретто Повеления звезд и тут же приступил к сочинению музыки. В конце апреля пришло известие, что 22 апреля в Байройте скончался Юлиус Книзе, однако на похороны заслуженного хормейстера и энтузиаста школы формирования байройтского стиля скиталец по техническим причинам не успел.
Еще в марте Зигфрид дал два концерта в Париже и во время своего пребывания во французской столице снова доказал свое влечение к противоположному полу. Там у него вспыхнула любовь к солистке Опера́-Комик по фамилии де Нуовина. Об этой певице сохранилось мало сведений; известно только, что она в то время выступала во многих ведущих партиях меццо-сопрано и контральто – таких, как Кармен в опере Бизе, Сантуцца в Сельской чести Масканьи, Анита в Наваррке Массне и Шарлотта в его же Вертере, а также Прозерпина в одноименной опере Сен-Санса. Судя по всему, Зигфрид не торопился сообщить матери о своем новом приключении, поскольку хорошо понимал, что оно не доставит ей никакой радости. Посетив в начале мая Триест и Флоренцию, Зигфрид вернулся в Байройт, где продолжил работу над музыкой Повеления звезд. К началу августа эскизы партитуры второго действия были готовы. Осенью он отправился в Верону, где решил провести премьеру Весельчака, на этот раз в качестве благотворительного спектакля в пользу жертв землетрясения. Там он снова встретился со своей парижской возлюбленной, вдобавок с ней познакомилась прибывшая на премьеру Козима. Певица произвела на нее приятное впечатление своими манерами, но о том, чтобы Зигфрид на ней женился, не могло быть и речи. На премьеру приехал также старый друг семьи Карл Клиндворт. Публика с воодушевлением восприняла новую оперу, но мнения прессы были противоречивыми. Тем не менее многие сходились в том, что у сына Рихарда Вагнера наметилось тяготение к мейерберовской «большой опере»: во втором действии была даже балетная сцена, сопровождаемая, впрочем, хоровыми комментариями. Сам композитор отметил в письме Хумпердинку: «Как видишь, верный Джакомо ведет меня по жизни». Разумеется, Козима ни о чем подобном и слышать не хотела. Как писал ее биограф Рихард дю Мулен-Эккарт, своим присутствием на премьере она хотела «прежде всего оповестить мир, что она, с одной стороны, хранит и оберегает традиции Байройта, а с другой – с материнской гордостью наблюдает за творческими успехами сына».
* * *На фестивале 1904 года Францу Байдлеру наконец доверили дирижировать одним из циклов Кольца. Молодой ассистент впервые выступил в качестве капельмейстера, но, оказав зятю эту высокую честь, одновременно связанную с немалой ответственностью, Козима ничем не рисковала: ей не приходилось сомневаться в его возможностях. Незадолго до того Байдлера приглашали в Россию, где он с успехом дирижировал Голландцем, Тангейзером, Валькирией и Закатом богов в императорских театрах Санкт-Петербурга и Москвы; гости фестиваля могли узнать об этом из только что выпущенного «Путеводителя», где можно было также прочесть, что Байдлер «руководил симфоническими концертами в Москве, где был удостоен высоких почестей». Прежде всего ему было присвоено звание придворного капельмейстера. Из Москвы, где Байдлер дирижировал Голландцем, сопровождавшая его Изольда писала матери: «Как бы вы порадовались, наблюдая Франца за работой, видя, как свободно, смело и определенно раскрывается его дарование и какие у него есть еще возможности, ведь ему обеспечена здесь полная свобода… ему тут полностью доверяют и прилежно выполняют все его распоряжения вплоть до мельчайших деталей (это относится не только к оркестру и певцам, но и к режиссеру, сценографу, машинисту сцены – короче говоря, ко всем!)». Такие же чувства испытывала Козима, писавшая дочери в ответном послании: «Это совершенно сказочное счастье… Этим объясняется все то, что нас поражало порой во Франце, что в нем скрывалось, о чем он не знал сам и что теперь должно было проявиться, чтобы его освободить. Мы и не сомневались, что он пройдет эту проверку. Я не могла себе представить, что буду так счастлива. Я ведь лишь хотела, чтобы он доказал себе сам, на что он способен. И это делает меня еще счастливее!»
То, что Байдлеру доверили дирижировать в Доме торжественных представлений Кольцом наряду с Гансом Рихтером, свидетельствовало об огромном доверии к нему. Козима явно благоволила своему зятю, однако прежде, чем мужу Изольды была оказана столь высокая честь, ему, в отличие от сына Мастера, пришлось пройти серьезную и длительную проверку. Все же его выступления в России имели большой успех, а на Валькирии в Санкт-Петербурге, которая впервые прозвучала там на русском языке, присутствовал сам император Николай II. Несмотря на все это, после своего возвращения Байдлер продолжал выполнять в Байройте обязанности ассистента. Козима, безусловно, была довольна успехами зятя и в то же время зорко следила за тем, чтобы, способствуя процветанию семейного предприятия, он не перебегал дорогу ее сыну. Еще в 1902 году она писала Изольде, находившейся вместе с мужем в Мюнхене, где тот давал концерты: «…я не могу тебе сказать, как я радуюсь при мысли, что и Франц теперь представляет наше дело. Он будет поддерживать Фиди. Какое неизмеримое счастье: служить этому делу и раскрывать в нем себя». Однако, как показало время, Козима явно недооценила амбиции Байдлера, который не собирался оставаться бледной тенью сына Вагнера.
После смерти в апреле 1905 года Юлиуса Книзе Козима предложила Байдлеру возглавить школу формирования байройтского стиля, преподавать в которой его, собственно говоря, и взяли в Байройт почти десятью годами раньше: «Теперь, мой дорогой, я обращаюсь к тебе с вопросом: готов ли ты послужить нашему делу и мне и занять место Книзе? Возможно, это будет тебе не совсем по душе, но таким образом ты мог бы получить глубокое удовлетворение». За прошедшее время Байдлер сделал огромные успехи как дирижер и коррепетитор, и лучшей кандидатуры на эту должность было бы трудно сыскать, но собиравшийся, по-видимому, стать ведущим капельмейстером новый член семьи от этой чести отказался, чем немало обидел Козиму. Разумеется, она не собиралась препятствовать дальнейшей карьере мужа ее дочери, но и допустить, чтобы эта карьера оказалась более успешной, чем у ее сына, тоже не могла. Поэтому она предложила ему провести на фестивале 1906 года всего лишь два представления Парсифаля. Остальные спектакли сценической мистерии должны были разделить между собой уже дирижировавшие ею на предыдущем фестивале Карл Мук и Михаэль Баллинг. Можно с уверенностью сказать, что, предоставляя зятю возможность выступить в 1906 году, завершавшая карьеру руководительницы фестивалей Козима «потеснила» своих дирижеров, которые вполне справились бы с репертуаром и без него. С другой стороны, на том фестивале Зигфрид и Ганс Рихтер традиционно поделили Кольцо, Феликс Мотль в последний раз выступил в Доме торжественных представлений, проведя несколько спектаклей Тристана, а Баллинг взял на себя по два представления как Парсифаля, так и Тристана. Таким образом, Байдлер опять занял низшую ступень в иерархии байройтских капельмейстеров. Поэтому он был вынужден согласиться на полученное предложение, но выражения благодарности Козима от него не дождалась и заметила сквозь зубы: «Мы не ждем благодарности, поскольку подобные ожидания могли бы уменьшить нашу радость. Но мы желаем, чтобы Вы с полной ясностью и любовью осознали степень нашей искренности». Зять и теща затаили друг на друга обиду, и вскоре дело дошло до открытой вражды. Уже во время фестиваля, 30 июля, в Ванфриде был устроен для узкого круга посвященных вечер памяти Листа: Байдлер и Мотль сыграли на двух роялях симфоническую поэму Тассо, а певица Катарина Фляйшер-Эдель исполнила в сопровождении Байдлера три песни. Тогда все прошло как нельзя лучше и ничто не предвещало разразившегося через несколько дней скандала. Сказавшийся больным Карл Мук попросил, чтобы Байдлер заменил его во время четвертого представления Парсифаля, – с тем чтобы он продирижировал вместо Байдлера следующим представлением, которое должно было состояться через четыре дня. Тот не возражал против замены, но потребовал, чтобы следующий спектакль также оставили за ним. Судя по всему, оба хотели дирижировать в тот вечер, когда театр должны были посетить кронпринц Вильгельм Прусский и его брат Август Вильгельм, не говоря о большом числе других знатных особ. Таким образом, Байдлер хотел взять на себя не два, а три представления, в том числе то, на котором он мог бы особо отличиться. В конце концов Козиме пришлось на это пойти, однако она затаила обиду как на зятя, так и на не желавшую вмешиваться в это дело Изольду. Об этом она прямо заявила воспротивившемуся ее воле дирижеру: «Не мучаясь угрызениями совести, ты воспользовался тем, что у нас не было на замену другого дирижера, и стал вымогать в день, когда дирижировал Парсифалем, право провести и третье представление, объявив мне, что пусть, дескать, дирижирует Мук, а ты этого делать не будешь, если я тебе не пообещаю предоставить возможность встать за пульт также 11-го числа (элегантная публика!!)». Ее возмущение не могли смягчить ни теплый прием байдлеровского исполнения публикой, ни восторженные отзывы прессы: «Прежде всего следует выделить яркую индивидуальную манеру, которую продемонстрировал придворный капельмейстер Байдлер. Это было не простое заимствование… но отмеченное всеми слушателями высокое художественное совершенство личной интерпретации…», а также: «При этом придворный капельмейстер Байдлер, со свойственными ему художественным чутьем и темпераментом, мастерски добивается от оркестра высочайших и блестящих эффектов. В конце представления весь театр разразился бурными аплодисментами». В последующей переписке с дочерью Козима обвиняла ее и зятя в неблагодарности и изъявляла готовность разорвать с ней отношения: «Если ты не хочешь понять мои решения, то давай расстанемся. Потому что твое недостойное поведение во время последнего фестиваля и недостойный характер наших теперешних отношений стали непереносимыми прежде всего из-за тебя. Бог, разумеется, должен за многое, очень многое меня простить, но что касается вас, то совесть у меня совершенно чиста». Однако это свое заявление она, по-видимому, рассматривала как обычную материнскую угрозу в надежде на то, что дочь и зять пойдут на попятную: «Все же ты не в своем уме, и это тебя извиняет за то, что ты смеешь судить свою мать. Но ты еще придешь в себя, раскаешься в своей неправоте и попросишь меня уничтожить твои неразумные строки как ребячество, которое мы прощаем всем нашим сотрудникам». Однако она недооценила упорство зятя и преданность ему своей дочери.
Чтобы понять подоплеку тогдашних событий, следует также принять во внимание резкое ухудшение здоровья шестидесятисемилетней Козимы. В начале февраля 1906 года один из самых модных врачей Германии Эрнст Швенингер, к которому она постоянно обращалась со своими проблемами, получил из Байройта подписанную Евой телеграмму с просьбой заехать, чтобы проконсультировать ее мать. Несмотря на свою неважную репутацию среди коллег, называвших его «жирогоном» и «обезвоживателем», Швенингер был весьма популярен. Благодаря своей славе чудо-врача, которую ему обеспечивали внушительная внешность, уверенная жестикуляция, пронизывающий взгляд черных глаз и парализующая волю пациента манера вести беседу, он имел солидную клиентуру, включавшую главным образом представителей высшей аристократии и крупной буржуазии. Достаточно сказать, что уже в тридцать два года он стал личным врачом Бисмарка, а впоследствии заведовал отделением в знаменитой берлинской клинике Шарите и возглавлял другие крупные клиники в Берлине и Мюнхене. Проконсультировав Козиму, он нашел ее состояние здоровья не вполне удовлетворительным и предложил ей пройти профилактический курс лечения. Пройти «курс лечения Швенингера» было не только престижно, но и довольно дорого. Однако на этот раз Козима не посчиталась с расходами, и по ее просьбе профессор предоставил во второй половине февраля ей и тридцатидевятилетней Еве роскошную палату в своей больнице в Гросс-Лихтерфельде под Берлином. Трудно сказать, что именно пошло на пользу руководителю Байройтского фестиваля – предписанные врачом процедуры и диета или царивший в его клинике психологический климат, – но у Козимы хватило после этого сил провести фестиваль и при этом дать решительный отпор строптивым Байдлерам. Однако к концу года ситуация резко изменилась.



