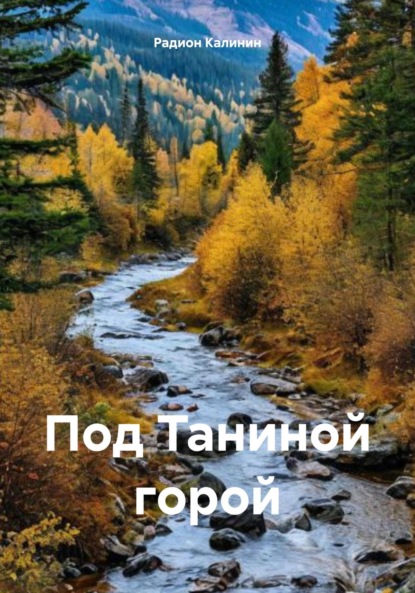
Полная версия:
Под Таниной горой
Разоставила кросна,
Им девятая весна,
По-за ниченкам на белках
Кура вывела цыплят.
Но прежде чем соткать холст, полагалось иметь нитки. Нитки получались из кудели. А пряли вручную. Самопрялки – и той не купишь. Внеся трёхрублевый задаток, мама раз десять ездила в Шамары, но так и не приобрела заветной самопрялки. Куделя сама собой тоже не получалась. Лён, вырванный и увязанный в снопы, сначала сушили, потом молотили, затем мяли, после этого трепали и, наконец, чесали. Делалось это обычно зимой в бане. Только после этого получалась более или менее подходящая куделя.
Дорогой ценой доставался холст, длинный путь он проходил до того, как облачить наши тела. В солнечные летние дни сотканный холст расстилали на траву под окном, чтобы стал он белый, как снег. Шила мама сама, вручную. Если бы швейную машинку! – сколько раз мечтала она. А мечта так и не осуществилась.
Штаны и рубахи шила нам мама по заказу. Бывало, спросит, какую рубаху сшить – красную, синюю или зелёную. Какую скажешь, такую и сошьёт. Хоть цвет и разный, а материал всё равно одинаковый: грубый, дергучий, костистый, мозоливший тело. А чтобы холщовая рубаха носилась дольше, её перевёртывали на другую сторону. Штаны из холста надевали на голые ноги /голяшки/. Эти штаны – и твои кальсоны, и твои брюки. Зови как хочешь, но терпи. Я, например, носил такие штаны лет до четырнадцати – и ничего, терпел. А теперь вот сын мой Вадим к четырнадцати годам износил столько дорогих /нехолщёвых/ костюмов, что мне и во сне никогда не снилось.
Но и холста не хватало. Потому-то, посылая меня боронить или возить жерди к Ване Николину или Кузьме Борисовичу, мама наказывала: «За работу деньги не бери, а проси холста на штаны». Но просить я просто-напросто боялся.
Мама едва успевала сшить каждому из нас необходимую одежонку и обстирать нас. Стирала штаны и рубахи, завшивленные и подчас изгаженные, в деревянном корыте. Сушила на верёвке прямо на улице или под крышей. Гладила вальком /короткой круглой палкой/. Лет до тринадцати-четырнадцати никто из нас не знал ни ботинок, ни сапог, ни калош. Зато лапти мы носили с малых лет. Теперь многим в диковинку покажется, если скажешь «онучи» или «оборки». Ещё чего доброго в словарь заглянут, чтобы найти объяснение непонятных слов.
Кроткая, смирная, степенная, малоразговорчивая, мама умела петь песни и отвести душу в те праздники, когда собирались гости.
По воспоминаниям нашего старшего брата Петра, мама с малых лет была скромной, застенчивой, доброй. Ко всем своим детям относилась одинаково, всех любила. Если кто-либо, разбаловавшись, выводил её из терпения, она наказывала шлепком по мягкому месту. В свободное время гладила сыновей по головке, приговаривая: «Дорогой мой, расти большой». Мужа своего /отца нашего/ она до некоторой степени боялась и была малословна. Могла целыми днями молчать. Понимала отца нашего с полуслова. Все его указания выполняла беспрекословно, не перечила. Если намекнёт насчёт браги или оладей, то мама знала, что это надо сделать обязательно. Отец никогда не говорил, что приготовить на завтрак, обед или ужин. Мама сама думала об этом. Отец никогда не упрекал её за приготовление пищи. Обращаясь к ней, не называл по имени, а говорил «мать». Мама все обиды быстро прощала, злобы не затаивала. Знала много сказок, бывальщин. Вечерами, когда отца дома не было, она рассказывала детям и сказки, и разные происшествия. С отца никогда ничего не требовала. Он должен был сам догадаться, что ей купить из одежды и обуви.
Занимаясь с нами долгими зимними вечерами, мама любила задавать нам скороговорки, и сама вместе с нами старалась как можно быстрее произнести их. Запомнились: «Круг я погреба хожу, все про погреб говорю». А выговаривалось: «Круг я погреба хожу, все про кобрег говорю». Или «Нашего пономаря не перепономарить и не выпономарить». Ещё «Ехал лекарь через реку, вдруг увидел – в реке рак. Он засунул в реку руку, рак за руку его цап».
Когда сверкала молния и гремел гром, мама крестилась, и нас заставляла делать то же. Солнце, бога, хлеб она называла не иначе, как солнышко, богушко, хлебушко, батюшко.
Заставляла нас здороваться с каждым человеком, знакомым или незнакомым, если он попадётся навстречу. Курить строго-настрого запрещала. Пить разрешала только взрослым и по праздникам.
В семье нашей не принято было фотографироваться. Потому не сохранилось ни единого снимка нашей большой семьи. Лишь в 1955 году, приехав в отпуск, я пригласил деревенского фотографа – самоучку Максима Орлова к нам, и он изготовил несколько карточек. И всё-таки мама спрятала подальше эти карточки, чтобы никто их не нашёл.
Конечно, радостью мамы было и то, что подрастали дочери и сыновья и постепенно становились на ноги.
Когда семья вступила в колхоз, мама работала наравне с остальными колхозницами: сгребала сено, вязала снопы, полола пшеницу, ходила на молотьбу, копала картошку – всего и не перечислишь. Помнится, в 1936 году в Шалинской районной газете «Ленинский путь» её работником Порфирием Тимофеевичем Корюковым была написана о маме большая, хорошая, тёплая статья.
Дважды – в тридцать шестом и тридцать седьмом годах – мама сумела получить от государства пособие по многодетности, пока младшему сыну Макару не исполнилось пять лет.
После войны маму наградили орденом «Материнская Слава» первой степени.
Помню, как мама не велела нам заправлять подол рубахи в штаны и держать руки в карманах, поясняя, что так делают только коммунисты. Откуда ей тогда было знать, что многие её сыновья, внуки и внучки впоследствии станут коммунистами и комсомольцами. Вспоминая о тех двух советах, я сделал вывод, что от первого не было ни пользы, ни вреда, а второй пригодился в армии.
Однажды кто-то поджёг наш дом под Таниной горой. К счастью, стена дома, обращённая к Синей горе, только занималась. Выбежав на улицу и заметив огонь, я бросился к маме и старшей сестре. Огонь мигом затушили. Кто поджёг дом – так неизвестно и до сих пор.
Много трудностей перенесла мама. Кроме всего прочего, терпела побои. Действительно ли мама была виновата, или, не видя другого выхода, лишь бы сорвать зло, тятя набрасывался на маму, таскал её за волосы, и она начинала реветь. Один раз, видя, что мама не виновата, я заступился, подбежав к отцу и схватив его за руку. Только годов мне было мало, а силы и того меньше. Тятя схватил меня обеими руками за бока, приподнял, как сноп, и легко отбросил меня метра за три.
Заступился за маму и Пётр. Однажды даже пригрозил прокурором, после чего тятя немного утихомирился.
Каждый из нас помогал отцу и матери, как мог. К труду нас приучали сызмальства. Подмести пол, дать сена корове и овцам, наколоть и натаскать дров, принести воды было для нас обычным занятием. Только летом, когда вода в колодце высыхала, приходилось таскать её километра за полтора – то из Нагайского лога, что в Кузьмичах, то из колодца со старины, что в Гарюшках.
Запомнилось, как тятя, мама и мы, ребятишки, ездили на лошади по малину в Большой Лип. В мешки укладывали вёдра, корчаги, туески. Собирать малину, как и другие уральские ягоды, было для нас сущим праздником. Едешь и чувствуешь, как ветер легонько гладит верхушки деревьев, будто мама гладит рукой по волосам головы. А от дороги тянутся в обе стороны тропки, словно сучья от большого дерева. Вот встретилась речка. Она извивается между деревьев и кустов так, как неслись, бывало, мы зимой на санках или лыжах с Таниной горы, минуя деревья. Карабкаясь по малиннику из оврага на угор, мы цеплялись за сучья деревьев, словно за гриву лошади. Местами малинник обрывался, будто срубленный топором. А то попались две ели, росшие так близко одна возле другой, словно это были два закадычных, никогда не расстающихся друга. Пока малину везли домой, на дне вёдер, корчаг и туесков отстаивался сок. Звали его малиновкой. Пили эту малиновку, кажется, с ещё большим наслаждением, чем берёзовку.
С каждым годом старилась, седела, сиротела мама. Первой оторвалась от мамы Алимпиада, выйдя замуж ещё в конце двадцатых годов. За несколько лет до войны, женившись, стал жить отдельно брат Пётр. Перед самой войной ушёл на военную службу я. В начале войны, уехав в ремесленное, а потом поступив на завод, откололся от семьи Леонид. После войны, обзаведясь семьёй, переехал в Козьял Антон. Перебрался жить в Шамарку Иван. Отслужив действительную, уехал в Шамары Михаил. Подался на самостоятельную работу Макар. Мама осталась жить с дочерью Анной. Настала пора расставаний и встреч.
Осенью пятьдесят восьмого года к маме нежданно-негаданно подкрался паралич, лишивший её дара речи. Но постепенно, как говорят в деревне, мама отутобела. Было ясно, что ей требовались теперь только тишина да покой. Догадывалась мама, что жить ей осталось недолго. И задумала она повидаться перед смертью с сыновьями, жившими неподалёку, и поочерёдно съездила к каждому. Но сердце тянуло домой. В начале мая пятьдесят девятого маму разбил паралич вторично. Потеряв сознание, мама умерла седьмого мая пятьдесят девятого года, а через два дня – девятого мая – её похоронили на Синей горе, рядом с тятей, дядей Савватеем и тёткой Зеной.
Когда-то разлетевшиеся, как птицы из гнезда, все девятеро сыновей и дочерей собрались под Таниной горой вместе, чтобы проводить маму в последний путь, чтобы поклониться ей в последний раз. Никому из нас не было легко в те траурные дни. Но, кажется, тяжелее всего перенесла смерть мамы Анна – ведь она прожила вместе с ней со дня своего рождения и до её смертного часа.
Город Кольчугино, Владимирская область, 1966 год.
IV. Родственники отца
Самым старшим среди братьев отца нашего был Иуда Захарович, по-деревенски Юдша, высокий, тощий, быстрый на ногу, с козлиной бородкою. Когда мы, племянники, прибегали к дяде Юде в гости, он встречал нас с большим радушием и неподдельной доброжелательностью, находя те особые, дорогие нам слова, которые зароняли тепло в детскую душу. Запомнилось мне, как он на ходу умел без платка так быстро и аккуратно высморкаться, что содержимое носа отлетало на несколько метров в сторону. Как и у каждого человека, был и у него недостаток – плохо слышал одним ухом, потому и просил он разговаривать с ним погромче, в противном случае поворачивал одно ухо к говорящему или переспрашивал непонятное.
Худощавый, поджарый, беспокойный, он, казалось, не признавал плохой погоды. Зимой, бывало, в самую что ни на есть беспросветную падеру (метель) он бежит по дороге через Обскую переменку, лишь чуть нагнув голову. Его не смущало, что на мельнице завозно (много народу). Он всё равно запрягал лошадь и ехал.
Выше простенка над окнами висели в доме дяди Юды часы-ходики с боем. Меня и других братишек, прибегавших в гости к дяде Юде, завораживал этот самый бой часов. Иногда сидишь, ничего не делая, чтобы только дождаться, когда часы издадут таинственный, непонятный нам звук. Если же ждать очередного боя часов не хватало терпения, то мы просили двоюродную сестру Ненилу покрутить стрелку, что она (Ненила) и делала, утоляя наше любопытство и устраивая внеочередной часовой звон.
В зимнюю пору в избе дяди Юды часто собиралась молодёжь на вечерки. Засидевшись допоздна, многие, в том числе и мой старший брат Пётр, оставались тут же ночевать – кто на полу, кто на печи, кто на полатях – чему ни дядя Юда, ни тетка Окулина никогда не перечили.
Прибежал как-то в гости к дяде Юде малолетний сынишка соседа Тита Ивановича. Крепко заснувший, он, вероятно, не в силах был встать, чтобы справить лёгкую детскую нуждишку. Обмочился, бедный. Специфический тот запах ударил в нос дяде Юде, и он, поморщившись, но в то же время погладив парничка рукой по голове, добродушно сказал :
– От тебя что-то сегодня колонком несёт.
Романтик по натуре, дядя Юда вместе с нами, ребятишками, радовался радуге-дуге, одним концом упершейся в гору, а другим – в лес за Петровичами.
Подобно молодому человеку, любившему одну-единственную из всех девушек, Иуда Захарович любил (хлебом не корми!) гнать дёготь. На деньжонки, вырученные от его продажи, справлял одежонку и обувь семье. Иной раз купит полный короб огурцов. Как это ни покажется странным, но, в отличие от отца нашего, рыбалкой он не увлекался. Не тянуло его и на дикого зверя. Колхозное строительство надломило в уме Иуды Захаровича привычное чувство единоличной жизни, и он, заколотив двери и окна своего дома обыкновенными досками, вместе с семьёй подался в далёкую Сибирь в надежде, что там не будет колхозов. Это случилось году в тридцатом.
Года через полтора-два семья его возвратилась на родину и, как ни в чём не бывало, вступила в колхоз. Не вернулся только глава семейства: тугого на уши, его зарезало поездом на одной из железнодорожных станций Сибири. Так трагически закончилась его поездка в поисках лучшей жизни.
Давно нет в живых дяди Юды, но помнят его в деревне. Чтобы вспомнить добрым словом покойника, обычно устраивают в нашей деревне девятины, сорочины и годины. Если отбросить девятины, а справлять только хотя бы раз в год сорочины и годины, то, пожалуй, получилось бы в память о дяде Юде уже без малого сорок сорочин и сорок годин.
Жена Иуды Захаровича – маленькая, коротенькая, но подвижная и бойкая Окулина (Акулина) Филатовна происходила из того семейства Филатовичей, чей достаток (вернее, недостаток) пищи вызывал иронию («Пища-то у нас не как у Филатовичей»). Окулина Филатовна умерла лет через десять после войны в тех самых Ивановичах, в которых она прожила всю жизнь.
Старший сын Иуды Захаровича – Ондрон (Андрон) родился в начале этого века. Невысокий ростом, некрепкий здоровьем, часто скудавшийся сердцем, он всю жизнь занимался по счётной и бухгалтерской части.
Женившись, он жил в деревне Ижболде, затерявшейся в дремучих лесах между Коптело-Шамарами и Сылвой. Умер он от сердечного заболевания в начале сороковых годов.
Второй сын Иуды Захаровича – Марк, по-древнерусски Марушко, заканчивающий отсчитывать шестой десяток, живёт на станции Вогулке Свердловской железной дороги. Ростом выдался в мать. Как обладающего неплохими организаторскими способностями его много раз избирали членом (депутатом) сельского Совета.
У Иуды Захаровича родились три дочери: Анна, Ненила и Александра. Анны и Александры нет в живых. У Анны, выходившей замуж, было два мальчика, наша родня, потому-то мы и дружили с ними и не раз играли возле дома Иуды Захаровича, залезая и скатываясь с соломенного, приятно пахнувшего хлебом омёта. Звали тех ребят по-чудному: одного – Полиертом, другого – Полиешкой. Где они сейчас, друзья далёкого милого детства, и живы ли, к сожалению, не знаю. Ненила (Нина) с дочерью, зятем и внуками живёт тоже на станции Вогулка.
Этим, собственно, и можно было бы закончить рассказ о дяде Юде и его семье. Но мне почему-то захотелось упомянуть об именах: Юда, Окулина, Ненила. Среди людей, родившихся, скажем, после войны, таких имён днём с огнём не сыщешь ни в городе, ни тем более в деревне. Что касается Иуды, то ещё можно подумать, что это еврейское имя. Но дядя Юда, насколько я знаю, близко от еврея не стоял, живого еврея в глаза не видел. А если учесть божественное прошлое Иуды (не нашего дяди), то и совсем никому не захочется носить это имя.
А Акулина, по-деревенски Окулина, Окуля? Не слыхал я что-то последнее время, чтобы в загсовских книгах было написано такое имя.
– Не баское, – скажут в деревне.
– Не подходящее, – изрекут в городе.
Одна из женщин, родившихся и выросших в глухой деревушке Шамарке, чуточку знавшая меня, летом шестьдесят шестого года, встретив меня, этак смешливо-пренебрежительно представилась: «Окулька». Хотя её в действительности не звали Окулькой. Ей казалось, что я засмеюсь, надорву живот, буду вне себя от её открытия. Ничего подобного она не увидела и не услышала. В самом деле – зачем насмехаться над именем, может, и неблагозвучными именами людей, чья жизнь чиста, как капелька воды на траве?
А Ненила? Помнится, у Некрасова встречается такое имя. Значит, оно старинное, выдержавшее проверку временем. Тем не менее нашу двоюродную сестру Ненилу зовут Ниной, считая, что делают ей приятное. А чем плоха, собственно говоря, Ненила? Что в этом имени зазорного, режущего ухо, непривычного? Да ровном счетом ничего. А вот показалось же оно кому-то неподходящим, не ласкающим слуха, «небассиньким», и ни за что ни про что вынудили женщину в годах рекомендоваться Ниной и звать её Ниной.
На мой взгляд, с именами в последнее время большой непорядок. Вначале стали зазорны имена Иуда, Акулина, Ненила /про Полуэкта и Полиерга я уже не говорю/. А теперь – кто бы раньше подумал?! – даже Иван многим кажется несовременным, хотя, если посчитать всех Иванов в нашей стране, они займут, по сравнению, скажем, с Сергеями, Николаями, Петрами, первое место.
Следующим по старшинству братом отца считался Савватей Захарович, попросту – Савотьша, носивший, как и каждый житель нашей деревни, кличку, причём кличку довольно странную – «Манана». Невысокий ростом, бородатый, в меру набожный, припадающий при ходьбе на одну ногу, беспокойный, всю жизнь возившийся с ульями и пчёлами – таким мне запомнился Савватей Захарович. Умер он в середине грибного лета в 1956 году после сердечного приступа, случившегося с ним на угоре возле конного двора в пути к пчелиным семьям, жившим в чурках на деревьях в Гарюшках.
Насколько помнится, он был строг, порою беспощаден к детям, бережлив, умел постоять за себя, не всегда уступал другому. Как-то /это было в начале тридцатых годов, когда ещё жили единолично/ три семьи – Иуды Захаровича, Савватея Захаровича и Трофима Захаровича – жали овёс жаткой-самосброской между Курьями и Изволоком на лесном поле, со всех сторон загороженном берёзами и поровну разделённом между тремя братьями. Поскольку жатка принадлежала Иуде Захаровичу, сперва жали /косили/ и вязали снопы на его полосе. А рядом – полоса нашего отца. Казалось, чего проще, как приступить к ней. Но Савватей Захарович настоял на том, чтобы жатку перегнать на его полосу, а уж что до нашей – то в последнюю очередь. Короче говоря, брат – братом, а полоса – полосой, словно своя рубашка. А она, как известно, ближе к телу.
Как и отец наш, Савватей Захарович не отказывался от рыбалки. Плавал и один, и с моим отцом, а иногда и втроём, то есть с Лаврентием Захаровичем. Запомнилось, как делили улов на травянистом берегу реки. Рыбу не взвешивали, хоть и был заржавленный безмен. Вместо этого подбирали на глаз три одинаковых рыбины, скажем, три чебака, клали их рядышком, убеждались, что никто не обижен и каждая рыбина шлёпалась в свою кучу /три рыбака – три кучки/. Как уже было сказано, Савватей Захарович тоже ездил в Сибирь, тоже возвратился обратно и до конца дней своей жизни состоял в колхозе. Под старость помогал колхозу, чем мог: то верёвку совьёт, то хомут починит. Поражался он тем невероятным, уму непостижимым переменам, которые на его глазах произошли в деревенской жизни:
– Даже картошку – и ту садят и убирают машиной, – удивлялся он.
Дядя Савватей пожил на свете белом немало – лет восемьдесят с гаком. Было это году в пятидесятом или пятьдесят втором. Стояла поздняя осень. Глубокая осень наступила и в жизни дяди Савватея. И без того низкого ростом, годы нещадно гнули его к земле. Но скажите, пожалуйста, кому хочется умирать? Ни тому, у кого за плечами двадцать, ни тому, у кого двадцать уже без ошибки помножены на четыре. Я как раз находился в отпуске и жил в родных Кузьмичах, смешавшихся теперь с Ивановичами, как слились впоследствии деревни Кузьмичи, Ивановичи, Петровичи, Шамарка и Дубровка и стали теперь называться Коптело-Шамарами.
– Ничего, дядя Савватей, ещё поживёте, – говорил я ему при встрече, стараясь, насколько в моих силах, подбодрить его.
– Чего уж там – ничего, плохо дело станет, – с оттенком отчаяния ответствовал он.
В тот октябрьский промозглый месяц родился восемь десятков лет тому назад дядя Савватей. То бывают именины, а тут день рождения. Пока я жил малолетком в Коптело-Шамарах, я не помнил, чтобы отец мой или мать, его сёстры или братья или другие жители деревни справляли этот день. Единственный признак, по которому этот день не забывался, – это в честь тебя молились, да и тебя самого заставляли делать то же. Надумал помолиться в честь дня своего рождения и дядя Савватей. И помолиться не кое-как, а по всем правилам – с попом. А где поп – там и кадило, и фимиам, и протяжный певческий голос, и молитвы разные большей частью нараспев, и бесчисленные поклоны. Хоть и не ахти какой я помощник в этом деле, но пригласил дядя Савватей на день рождения и меня. Не молиться, конечно, а отпраздновать не последней важности дату в его жизни. Я не отказался. Пока поп Никандра справлял соответствующий тому случаю торжественный ритуал, я молча сидел в сторонке, выходя временами в сени покурить. А потом сели за стол. Принялись за пирог из самолучшей рыбы. Отведали медовой бражки. Вспомнили и отца нашего, и сына Савватея – Дементия, погибшего на фронте. Беседа закончилась умеренной тяжестью в желудке и приподнятостью общего настроения.
После того дня прожил дядя Савватей ещё несколько лет. Видимо, старые кости не грело, и он в жару ходил в овчинном полушубке. Тому, кто с недоумением поглядывал на него, он решительно, хоть и негромко, отвечал:
– Жар кости не ломит, а вошь тепло любит!
Жена Савватея Захаровича – Зинаида Григорьевна – была женщиной красивой, но строгой, скупой, своенравной. Под старость болела нервным заболеванием, от чего беспрестанно тряслись её руки и губы. Умерла она вскоре после смерти мужа. Похоронена на Синей горе, рядом с моим отцом и матерью.
У Савватея Захаровича и Зинаиды Григорьевны /тетки Зены, как мы её называли/ родились дочери Екатерина, Аграфена, Агафья, Зинаида, сыновья Пётр и Дементий. А всего, кажется, родилось не менее 20 детей, но большинство из них умерло в малом возрасте.
Как истинно уральский житель, выросший среди дремучих лесов, впитавший в себя язык прадеда и деда, отца и матери, дядя Савватей говорил тем ивановичевским и кузьмичевским простонародным языком, который был
присущ каждому жителю этих небольших деревень. Дядя Савватей очень часто произносил слово «взаболь», означавшее «в самом деле». Запамятовав на минуту название вещи или предмета, он непременно вставлял слово «то-воно». Увидев, что Калина глухой пошёл зачем-то под утор, дядя Савватей изрекал: «Опять его по чё-то понесло туды» /опять его зачем-то понесло туда/. Хворая и отвечая на вопросы о своём здоровье, он отвечал: «Старость, видать, подошла». Удивляясь тому, что некоторые сбривали литовкой всё подряд, что росло возле озера и в озере, он удивлённо заявлял: «Что-есь осоку и тину – и ту выпластали» /скосили/. Про тех, кто не жалел сил на работе, он с восхищением и некоторой завистью произносил: «Бьётся, колотится что мога». На вопрос: «Чем, дядя Савватей, занимаешься?» он негромко пояснял: «Да так, шышляюсь коло дому помаленьку». Того, кто тихо говорил, он просил: «Пошибче говори, а то я еть плохо чую». Радуясь большому улову рабы, он чистосердечно, от души восхищался: «Да, фартнуло нам, ребята, сёдни». Когда снег переметал дорогу и лошадь еле ступала наощупь, дядя Савватей задумывался: «Незнатко даже следа». Накосив травы, попавшей под дождь, он сокрушался: «Кабы знатье, отложить бы косьбу на денёк». Нередко вырывалось у него и междометие «у, дак» – знак уверенности и несомненности в том, что ничего трудного в том деле нет и не было. Если кто-либо начинал говорить не дело, нести околесицу, дядя Савватей, широко раскрыв глаза, останавливал говорившего: «Твори молитву». Сожалея о чём-то, он ронял: «Уть ты трою». Зная, что Ивана Александровича и его сына Тита по-деревенски звали коточиками, дядя Савватей шутил: «Коточик крепок, да лыка нет». Другой раз и загадку загадает: «Кабы не дедушкин шунтик-мунтик, заросла бы у бабушки шунтя-мунтя».
– Да сиди уж ты со своим шунтиком-мунтиком, – метнув недобрый взгляд, ворчала его жена Зеновья.
– Да это же про пешню я говорю, которой лёд в проруби долбят.
Умел дядя Савватей читать и писать и в Священном писании кое-что смыслил. Само собой разумеется, что и богу молился так же исправно, как исправно выполнял десятки неотложных деревенских дел.
Пётр Савватеевич живёт и работает в Шамарах. Растит и воспитывает девятерых или десятерых детей.
Дементий Савватеевич, родившийся в 1921 году, уходил на военную службу и затем на фронт вместе со мной. Погиб при наступлении на город Гжатск зимой 1942 года /около деревни Долгинёво/.
Екатерина была замужем за портным Горбуновым Матвеем Дмитриевичем /Матюгой/. После его смерти живёт в Шамарах. Аграфена ещё задолго до войны выходила замуж за Никона Григорьевича Калинина, погибшего на фронте. После войны вторично была замужем, но неудачно. Теперь живёт на станции Шаля.
Агафья, шадровитая лицом, замужем была тоже не однажды и живёт также в Шале.
Зинаида замужем за Гаврилом Фотеевичем Горбуновым, долгое время работавшим в органах МВД. Живут в Шале. Воспитывают немалую семью – семерых или восьмерых сыновей и дочерей.



