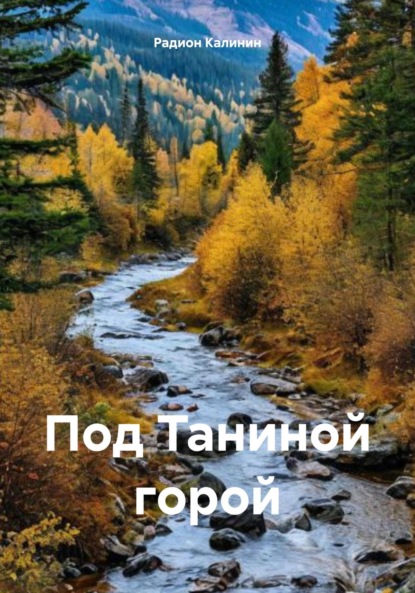
Полная версия:
Под Таниной горой
– А ведь пища-то не как у Филатовичей!
Вершина Таниной горы – безлесная, голая, словно бритая голова. Когда-то тут пасли скот. Потом каменистую землю распахали и стали сеять по очереди овёс, рожь, пшеницу.
Если вы пойдёте по Таниной горе с запада на восток, то окажетесь словно на гребне морской волны, застывшей навсегда. Метрах в пятистах от неё вы увидите гребень другой, тоже окоченевшей, волны. Наиболее красива макушка именно этой части горы. Пожалуй, не менее ста лет высились на самой макушке горы две могучие ели. Они пережили не одну войну, не одну засуху, не одну грозу. Кто знает, посадил ли их кто-нибудь или семечки еловые так удачно попали в землю. Только стояли эти две разлапистые суковатые ели рядышком, будто два пограничника, не мигая обозревающие даль.
В двадцатых и тридцатых годах каждую весну макушка Таниной горы первой среди других сбрасывала с себя белоснежный наряд и подставляла прошлогоднюю сухую траву солнцу. От пояса и выше гора была голой, а ниже пояса – ещё не сбросившей снежную одежду. Напоминала та гора женщину, пришедшую на рентген и раздевшуюся наголо до пояса. В одно из воскресений апреля – обычно на Пасху – штурмовали эту гору со всех сторон ребята и девчата. Одетые по-праздничному, во всё новое, с гармошками и балалайками, шли они из Кузьмичей и Курей, из Шамарки и Петровичей, из Дубровки и Ивановичей, с Игнатьевичей и с Мысу, с Еловика и Ильичей. Неизвестно, кем и когда к стволам стройных елей-подруг было крепко-накрепко привязано бревно. Смотришь издали – и видишь букву «Н». Через бревно, соединявшее стволы елей на высоте почти десяти метров, был умело переброшен канат. Обои концы его прочно цеплялись за крепкую длинную доску. Получалась качуля /качель/. Она не пустовала с утра до ночи. На ней метались по воздуху взад-вперед парни и девушки. Те, кому не хватало места устроиться на качели, играли в кандрель /кадриль/. В стороне резались «в очко». Иные схватывались в рукопашную. Порой пускали в ход камни, лежавшие поблизости в ямках – былых воронках, немых свидетелях бушевавшей здесь гражданской войны. Смех, шутки, песни не иссякали. Косогор свято хранил тайну любимых.
Через Танину гору лежал санный и колесный путь в Курьи, на Востряк, в Крюк, Платоново, Урмы. На Востряке были покосы многих жителей Кузьмичей и Ивановичей. В Крюку жили родственники. Через Урмы ездили на ярмарку. Теперь на макушке Таниной горы осталось только одно дерево: второе подгнило и под напором ветра упало. Но вторая ель не думает сдаваться: корни свои она глубоко запрятала в землю. Как символ мужества и бесстрашия, стоит, покачиваясь на ветру, эта мощная ель, возвышаясь и над другими деревьями, и над самой горой, постоянно видя, что делается окрест.
А перемены, происшедшие в Кузьмичах и Ивановичах за годы советской власти, настолько разительны, что и старикам не в память. Давным-давно не сеют хлеб вручную, не жнут люди рожь и овёс серпами, не молотят цепами, не ткут холст, не плетут лаптей, не покупают керосиновых ламп, не носят понитков и станавин изгребных, не шьют холщовых штанов и рубах, не ходят в церковь. Зато поля обрабатывают тракторами, хлеб убирают комбайнами, ездят на автомобилях, одеваются и обуваются по-городскому, каждый вечер зажигают огни электролампочек, почти все до единого читают газеты и журналы, слушают радио.
Когда наступал религиозный праздник Троица, Танина гора сиротела. Народ валом валил на Синюю гору. Там, на возвышенности, на месте, неведомо кем впервые избранном, гулянье начиналось спозаранку и продолжалось допоздна. Песни сменялись кадрилью, кадриль – русской пляской, пляска – играми в «третий лишний» или «окорукольцы». Назавтра на месте гулянья былиночки не найдёшь – одна утоптанная земля, словно её, солёную, овцы наголо выглодали. Недалеко от этой излюбленной поляны стояла изба. Помню, как в предвоенные годы тянулась в эту избу осенними тёмными вечерами молодёжь, чтобы поиграть на балалайке, сплясать, спеть песни, полюбезничать с гулеванкой /ухажёркой/.
А в праздник, именуемый «заговеньем» /перед Петровым постом – «Петровками»/, обычно собирались гулять на левом берегу Сылвы, в окрестностях деревни Шамарки. И опять-таки на виду у Таниной горы.
В советское время, в середине тридцатых годов, по Таниной горе впервые прошли трактора, автомобили, комбайны, над горой пролетели первые советские самолёты.
Единственное, чего непосредственно не испытала Танина гора, – так это Великой Отечественной войны. Но все военнообязанные-уральцы из-под Таниной горы ушли воевать. Остались дома только наш, к тому времени шестидесятисемилетний, отец и его ровесники-одногодки.
II. Отец
У отца, Трофима Захаровича, была фамилия Калинин. Родился он в 1875 году в бедной крестьянской семье. У деда, то есть Захара, было ещё пять братьев: Сидор, Макар, Тихон, Иван, Моисей. Прадеда звали Александром, прапрадеда – Леонтием, прапрапрадеда – Василием.
Отец и его брат Савватей как-то рассказывали, что впервые в шамарские края лет двести-триста тому назад приплыли на лодке по реке Сылва из-под Кунгура трое мужчин по фамилии Калинин, Шамарин и Горбунов. И что с тех пор эти фамилии стали преобладающими в нашей местности. И впрямь нынешние Ивановичи – это сплошь и рядом Калинины.
У отца было четыре брата: Иуда /Юдша/, Савватей /Савотьша/, Лаврентий /Лавруха/ и Зотей /Зотьша/, а также две сестры: Анисья и Домна. Домна жила замужем в Тепляках или Коптелах, а Анисья – на Шоломке.
Мать отца /бабушку нашу по отцу/ звали Анной.
Отец и его братья первоначально жили на краю Обской /общей/ перемены, на границе между Кузьмичами и Ивановичами, числясь по документам жителями Ивановичей. Впоследствии в этом доме остался жить со своей семьёй брат отца Савватей Захарович, переселившийся, как и все, в тридцать девятом году на берег Сылвы. Дом этот, вошедший в обиходную речь как «старина», и сейчас цел, хоть и стал ветхий. Стоит он в Новых Ивановичах рядом с нашим отцовским домом.
Самый старший из отцовых братьев – Иуда Захарович – отделился и поселился невдалеке от этого дома – на краю лесистого неглубокого лога.
Другой брат отца – Лаврентий Захарович – был взят на воспитание братом деда – Тихоном Александровичем и жил вплоть до тридцать девятого года под Таниной горой.
Самый младший брат – Зотей Захарович – выстроился и поселился на берегу реки Сылвы (в его доме теперь размещён сельповский магазин).
Поскольку дед наш Захар Александрович умер рано, то отец – Трофим Захарович – воспитывался у прадеда Александра Леонтьевича, любившего в шутку называть своих детей Сидорко, Макарко, Захарко, Тишка, Ванька, Моська – все! В начале девятисотых годов отец наш начал строить дом в Ближних Гарюшках, но тому помешала русско-японская война. Возвратившись с войны, отец достроил-таки дом и переехал в Гарюшки. Насколько живуча была в те времена частная собственность, свидетельствует такой случай. Жена Савватея Захаровича – Зинаида Григорьевна – не дала нашей маме последний раз испечь на старине хлеб. Так и пришлось нести квашню с замешанным тестом на новоселье, то есть в Гарюшки. Место для дома в гарюшечном косогоре оказалось неудачным, потому что зимой избу заваливало снегом по самую крышу так, что не вылезешь.
На первую мировую войну отца призвали в 1914 году. Воевал он в Пинских болотах и был ранен в плечо, отчего оно было потом ниже другого. После ранения отца поставили денщиком к генералу в городе Моршанске. Как только свершилась Октябрьская социалистическая революция, отец, отлучившись на базар, сбежал от генерала и – где поездом, где пешком – добирался до Таниной горы и Гарюшек.
В 1918 году отец был мобилизован красными для разгрома мятежа чехословацкого корпуса и на другой год демобилизовался из армии.
Роста отец был невысокого, но достаточно широк в плечах. Шагал, чуть припадая на одну ногу. Почти всю жизнь проходил в лаптях, которые плёл сам. Глаза белёсы, нос почти прямой, продолговатый, лоб открытый. На лбу, щеках и шее к старости поселились морщины. Носил бороду, стригся редко, и то «под горшок». Нрава был весёлого, общительного, простого, с открытой душой, работающий до самозабвения. Не лишён был и чувства юмора. Привёз он как-то в Шамары сдавать картофель в счёт обязательных поставок. Приёмщик, увидев мелкий картофель, заартачился. Отец и говорит: «Так ведь не только картошка, но и люди неодинаковы. Вот и ты мелковат уродился». Приёмщик, рассмеявшись, не стал перечить. Курить отец не курил, только и побаловался в молодости, как он рассказывал, искурив всего-навсего двадцать папирос. Хмельным не брезговал. Пил и водку, и пиво, и брагу. Последнюю, если подходил случай и наскребал денег на сахар, готовил сам в лагуне, который после соответствующей заправки ставил на печь.
Отец рано познал нужду. Не научившись грамоте, он, как сам об этом рассказывал, тринадцати лет уже пахал землю и делал все другие деревенские работы: сеял, пилил и колол дрова, косил, копнил и метал сено, жал хлеб, клал /скирдовал/ снопы, городил огород.
Но больше всего он умел ловить рыбу и охотиться на зверя и дичь. Потому-то его звали рыбаком и лесовщиком. Бывало, весной, едва отсеется /вспашет землю, посеет овёс и посадит картофель/, его ничем дома не удержишь. Взвалит через плечо мережу /сеть/ и зашагает в Гарюшки к реке Сылве, только гольки железные бренчат да лапти лыковые скрипят. Мережу /сеть/ он никогда не покупал /не на что было/, а плёл сам и нас, ребятишек, заставлял делать то же. Покупал только нитки. Длинными зимними вечерами, пристроившись при тусклом свете керосиновой лампы к косяку окна или к стене, он часами сидел, не разгибаясь, одинаковыми движениями поддевая игленицей /специальной деревянной иглой/ петлю, а вторым резким движением завязывая узел. Этот ручной труд был до невозможности однообразен и утомителен. Но с каждым часом, с каждым вечером, вершок за вершком, аршин за аршином сеть удлинялась, а к весне, смотришь, протягивалась на несколько десятков метров.
Первым помощником отца в рыбацком деле был старший сын Пётр /или Петрован, или Петро, как называл крестивший его поп Никандра/. Пётр и мережу вязал, и помогал отцу садить /ссаживать её/, и рыбачить плавал. Рыбачил отец и с братьями своими – Савватеем, Зотеем, Лаврентием, иногда со свояком – Кирьяном Софроновичем. Другом отца по рыбацким делам был Лёвушко Минеевич Калинин – житель Кузьмичей. Рыбачить отцу доводилось не только возле своей деревни. Особый, своеобразный, только ему одному, пожалуй, понятный рыбацкий дух подсказывал, где именно должна быть рыба – возле Курей или на Дмитровском плёсе, на Сенном или под Синей горой. Там, где другой рыбак вытаскивал из мережи одного окунишка или ершишка, отец – десяток. В мереже соседа трепыхается десяток рыбёшек, в отцовской – не менее сотни. Плавал отец исключительно на лодке-долблёнке. У ней перед другими лодками были свои преимущества: легка по весу, быстра в движении, хорошо управляема. Умещались в ней и рыбаки, и сети, но и, конечно, рыба. Но такая лодка с выпуклым, словно горбинка окуня, днищем требовала сноровки, ловкости и осторожности. Ступи в лодке неаккуратно или пошатнись нечаянно – обязательно искупаться тебе в воде. Отец, плававший не один десяток лет и чувствовавший лодку всем своим телом, – и тот иногда окатывался водой.
Рыбачил отец обычно на реке Сылве, родина которой – около села с таким же названием, иногда – на Вогулке. Приток горной реки Чусовой, Сылва не уступала своей старшей сестре ни глубиной, ни причудливыми – то лесистыми, то каменистыми – берегами и перекатами. Встретясь с горой или другим препятствием, река наша, словно предусмотрительный солдат на фронте, делала обход, охват, иногда отступала, чтобы, набравшись сил, вновь вырваться на простор. Ей не удалось, например, взять в лоб те же Ивановичи. А ведь до них из Коптел – всего-навсего десять километров. Тогда умница-река, хоть и проигрывала в расстоянии, но выигрывала в силе, сделала крюк в сто с лишним километров и пробилась-таки к Ивановичам.
Чтобы попасть в верховья Сылвы, наиболее богатые рыбой, отец никогда не плыл на лодке все эти сто километров. Он просто-напросто запрягал лошадь в телегу, грузил на неё лодку, шесты, сети, кадки и другое рыбацкое имущество и через горы – перевалы, сплошь затянутые дремучим лесом, через нашумевший в народе своими страстями и ужасами так называемый Разбойничий лог буквально часа через два-три с трепетом опускал мережу в воду. Нет, отец не всегда ждал, когда рыба сама пожалует в сеть. Разве что тогда, когда мережи поставлены на самолов. Обычно, заметав сеть в воду, сразу же начинал загонять в неё рыбу. Для этого был припасён специальный гладко обструганный лёгкий деревянный шест с железным раструбом на конце. Инструмент назывался боталом, а то и фуркалом. Словно хоккеист клюшкой, ловко орудовал отец боталом, резко тыкая им в упругую воду. С силой врываясь в раструб ботала и вытесняя оттуда воздух, вода издавала прерывистый, дребезжащий, хоркающий звук, напоминавший не то урчание, не то рёв. Вероятно, потому-то прозвали ботало ещё и фуркалом. Нещадное тыканье боталом /фуркалом/ будоражило, волновало, пенило воду, заставляя рыбу шарахаться туда, куда хотелось истинно настоящему, заядлому рыбаку, – в сети.
С рыбалки из Коптел отец возвращался всегда усталый, но в глазах в такие моменты можно было без труда угадать приметы удовлетворения. За несколько дней плавания кадки были полны рыбы. Засоленная, рыба не портилась. Причалив к берегу, отец, довольный, кряхтел. Но этим рыбалка не кончалась. Надо было ещё поставить кадки с рыбой в погреб, набитый снегом. Развесить мережи на колышки-вешки. Вытащить лодку на берег. А тут, глядишь, и соседи потянулись, словно на огонек. Одни – расспросить об улове, другие – купить рыбки, третьи – просто-напросто поглазеть. Помню, как приходил сосед – житель Кузьмичей Феопент Осипович Калинин и спрашивал:
– Трофим Захарович, нет ли рыбёшки на пирожишко?
Прирождённый рыбак, отец не был жаден на рыбу. Бывало, для своей семьи только на пирог и оставит, а остальную продаст или отдаст даром. Если мама клала кому-либо мелкую рыбу, то отец, недовольный, морщился, вынимая её обратно, а вместо неё подбирал рыбу покрупнее. Или увидит, как шурьята Антон и Алексей /мамины братья/ вытаскивают удочками только одних пескозобов, наложит им полные туески окуней, чебаков, ельцов и скажет:
– Бежите домой!
Потому что знал – без рыбного пирога не будет радости в крестьянской семье, особенно в праздник. Рыба, запечённая в тесте, особенно из пшеничной муки, – настоящее объедение. Вкусна была сама рыба, ещё вкуснее, кажется, – корка пирога, пропитанная рыбным запахом. Если перевести на современные понятия, то рыбный пирог заменял в ту пору холодную закуску, причем закуску первостатейную, отменную, любимую.
Те из мужчин, которые считали себя мало-мальскими рыбаками, но которым в этом занятии не везло, пускали слухи, что отец наш знает какие-то только одному ему ведомые приметы, пользуется запусками /наговорами/ и т. п. Что до примет, то для всякого настоящего рыбака они – не последнее дело. Каждый коренной крестьянин, родившийся и выросший в деревне, знает, что если ночью на траве нет росы /«сухорос»/, то завтра обязательно жди дождя. Так почему же рыбаку не знать, где и когда удобнее всего поймать рыбу, а не мутить воду без толку. В самом деле, в пору цветения шипиги хорошо ловится карась. В другое время отец о нём забывал.
Теперь уже большинству ведомо, что рыба очень полезна для человеческого организма. Но раньше всего об этом, наверно, было известно рыбакам. Отец мой считал за честь, обязанность и необходимость, после того как разрежут пирог, первым съесть голову наиважнейшей и наикрупнейшей рыбы. Может, это тоже было своего рода приметой, причиной везения на рыбалке. Так же, между прочим, поступали и другие рыбаки. Оказавшись однажды на рыбной ловле в верховьях Сылвы, возле деревни Коптелы, отец со старшим сыном своим Петром поздним вечером зашли к отцову приятелю – рыбаку, звавшемуся не то Маруном, не то Тарелом, переночевать. Тот перво-наперво вынес на стол рыбный пирог, а затем подался в сени за брагой. Пока хозяин наклонял лагун, наливая брагу в чайник, отец мигом выковырнул вилкой рыбью голову из пирога. Перешагнув через порог и бросив взгляд на пирог, хозяин сделался белее снега. Потеряв от злости дар речи, он швырнул пирог под порог. Моему отцу и Петру не оставалось ничего другого, как уйти из гостей и ночевать под ёлкой на берегу реки.
В зимнюю пору отец ловил рыбу мордами, сплетёнными из ивовых прутьев. Те прутья /лозы/ мы срезали на берегу Сылвы зимой. Выйдя на Сылву, отец разрубал поперёк реки лед, вбивал в речное дно колья, опускал в воду нечто вроде изгороди, называвшейся езом, а в промежутки ставил морды.
В половодье не брезговал саком /сакал рыбу/. В тёмные сентябрьские ночи выезжал на лодке лучить. К корме лодки прикреплялась стойка /коза/, на которую накладывали бересту и зажигали. При свете вода просматривалась до дна. Завидев щуку или налима, отец ловко вонзал острогу /зубчатую пику/ и вытаскивал рыбину в лодку.
Хоть и много рыбачил отец, отдаваясь этому делу со всей человеческой страстью, но он ещё и строился. А строиться пришлось ему трижды. Впервые, как уже сказано, отец поселился в Гарюшках – на северо-восточном неуютном, неприветливом, несолнечном склоне Таниной горы. Того дома я не видел в глаза, так как родился в двадцатом, когда отец уже перевёз дом на новое место. Чем прельстили отца лесистые Гарюшки – доподлинно не знаю. Но думаю, что не пашня, не земля-неудобица, прочно обложенная лесом со всех сторон. Держась за соху, тяжело переступая ногами, обутыми в лапти, к которым прилипала толстым слоем сырая земля, отец за день до хрипоты в горле сотню раз «понужал» /понукал/ лошадь, хлеща её витнем /плетью/, когда она, выбиваясь из сил, тащила соху в гору, останавливаясь чуть ли не через каждые десять шагов. Скорее всего, обрадовала отца близость реки, спрятавшейся за лесистым угором. До неё, Сылвы-матушки, то молчаливой, как рыба, живущая в ней, то не в меру говорливой на перекатах, под стать деревенской женщине Фомаиде Кирьяновне, по каменному взвозику /каменистой тропке/ было рукой подать.
А вокруг – царство леса. Иди, не ленись, руби дерево, какое твоей душе любо. Одно – на стройку, другое – на дрова, третье – на жердь. В лесу, особенно на вырубках, красно малины. Под деревьями, на полянах, на кромках леса, в густой и редкой траве – всюду мигают тебе земляничные звёздочки. Есть время и желание – собирай. И хмелю вволю. А в майские дни пьянит голову черёмуха. Кажется, хлопья снега, чтобы не растаять на земле, прыгнули на нетолстые черёмуховые деревья и повисли на их сучьях. И по грибы далеко ходить не надо. Помню, как одна женщина хвалилась: «Легось мы две кадочки грибов и губ насолили».
Одно плохо в Гарюшках – до крайности мало земли. А траву тяпали литовками, где придётся – и средь деревьев, и между пней, и даже осоку возле самой воды у реки или озера. Литовки /косы/ тупились так часто, словно они подрезали не траву, а тонкую проволоку, из которой делают заячьи петли. Иной раз и брусок не помогал. Тогда отец пристраивал на пеньке наковальню, опускался на колено и начинал молотком тукать /стучать/ по литовке, словно соревнуясь с кукушкой. А захочешь пить – ключик /родничок/ рядом. Нагнёшься к нему – будто кусочек льда отведаешь.
Лет через десять после войны, приехав на родину в отпуск и бродя по первой отцовской старине, я долго плутал меж деревьев, кустов и высоченного – с человеческий рост – багульника, пока не наткнулся все-таки на спрятавшийся в траве ключик и не попробовал из него водички, ломящей зубы до боли. Но сколько ни жил отец в Гарюшках – было ему тут не по душе, не по нраву, тянуло его на другое место – к солнцу, к свету, к простору. И поселился он у подножия Таниной горы, на её восточном склоне, на горизонтальной площадке, будто специально оставленной природой для дома. Не лишённый чувства романтики, отец и вправду выбрал красивое место. То, что отлично было видно с Таниной горы, хорошо просматривалось и из окон нашего дома. Но легко сказать «переселиться». Переселению усиленно противился родной брат отца – Зотей, у которого под Таниной горой была не одна пашня. После долгих переговоров, споров, препирательств, доходивших до ругани и оскорблений, отец всё-таки переселился. А места для новой усадьбы оказалось до ничтожества мало. Колодец был вырыт, а баня построена на кромке земли, принадлежавшей тому же Зотею. Овин примостился на краю пашни дяди Савватея. Вот и живи, и крутись, как на пятачке.
Старшему сыну Петру к моменту переселения под Танину гору сравнялось пять лет. В холщовых штанишках – первых штанишках, сшитых для него, он едва поспевал за матерью, которая вела его за руку на новоселье, пока не отстал совсем. Прибежал уже один, но без штанов. Когда пошли их искать, нашли две трубочки – штанины, похожие на два меха деревенской гармошки – минорки. Оказывается, Петру дорогой захотелось покакать. Постеснявшись сказать об этом матери, он нуждишку детскую справил, не снимая штанов, а потом, расстегнув одну-единственную пуговицу /у всех штанов, сшитых из холста, обычно пришивалась только одна пуговица, лишь бы штаны не спали, не сползли/, вынул из штанин сначала одну, потом другую ногу – и был таков.
Деревянный дом наш, посаженный на мох, с виду был длинный – восемь окошек смотрело на восток, туда, где разместились другие дома деревни Кузьмичи, где была Сенихина перемена, где жил Кузьма Борисович Киряков, на Петровичи и Балабанову гору, на лес, в котором затерялась Солёная речка, на шестьдесят второй разъезд железной дороги, на Медведевскую будку, на Лазаревичи. В одной избе, наиболее утеплённой, с тремя неширокими и невысокими окошками на улицу /а вернее сказать, на поле/ мы жили зимой. У стены слева стояла деревянная лавка /скамейка/ на четырёх ножках. Такая же лавка была у окон. В углу стоял простенький деревянный стол, покрытый протёртой на углах клеёнкой. Над столом, в переднем углу, – маленький иконостас, а в нём – всего-навсего две иконы. На одной была изображена Богородица – Матерь Божия с ребёночком на руках, а на второй – Николай Угодник.
На стенах не висело ничего, что бы украшало избу: ни картин, ни фотокарточек, ни часов. Справа много места занимала сбитая из глины русская печь. На неё всегда был постлан лист железа с заклёпанными краями. На том листе железа сушили зерно, а то и грелись сами, загнанные хлёстким морозом. Перед печью – нечто, похожее на кухню, называемое середью. Слева от двери стояла лоханка /лохань/, в которую сливали помои, а потом ими поили корову или овец. Ещё стояло в избе несколько табуреток, ухват, сковородник, помело, веник, клюка. Вот, пожалуй, и всё. Деревянную кровать – единственный предмет мебели, в котором быстрее успели занять место клопы, чем мы, смастерил отцу по его заказу какой-то мужик-столяр.
Отец с матерью спали на полу, головой к окнам. Вместо матраца стлали неизвестно когда скатанный войлок, под голову клали единственную в доме подушку, укрывались тулупом. А для нас, ребятишек, – печь и полати, голбец и лавки. Устраивались кому как удобнее. О матрацах мы и не слышали. Подушек не знали. Одеял не видели. Простыни считались мечтой. Всё, что валялось на полатях, – понитки, холщовые штаны и рубахи, пестрядиновые становины, шапки, варежки, онучи и разное ношеное-переношеное ремьё /тряпьё/, называемое обносками, было для нас подходящей постелью. Клопы, тараканы и вши что есть мочи кусали нас, но, к счастью, съесть не могли. Набегавшись, намёрзшись и наголодавшись за день, мы засыпали, не чуя возни надоедливых насекомых.
На зиму ставили в избу железную печку. Нагревалась она столь же быстро, сколь быстро и остывала, потому что вторые рамы в окна никогда не вставлялись. На полатях от нагретого спёртого воздуха лежать становилось невмоготу, и мы один за другим прыгали на пристройку к русской печи – голбец, а с него по приступку – на пол. Те, кто годами помоложе, полз с полатей на печь по брусу. Часто то один, то другой, еле протерев глаза от сна, срывался с бруса и грохался на пол, подымая рёв. Мать, ворча, кричала на нас:
– Опять забазонили! Леший вас носит!
На полу лежали до тех пор, пока не выстывало в избе. И снова – юрк на полати. А иногда выскакивала из паза полатная доска, и мы вместе с ней летели на пол.
Весной, перед Пасхой, переходили жить в летнюю избу с горницей. К переходу за зиму вымерзали тараканы. Но клопы только прикидывались, что замерзли. В этой избе простора больше раза в два. К обеим избам примыкали длинные сени с окном на баню и Синюю гору. За сенями – двор с двумя хлевами. В одном зимовали овцы, в другом – теленок. Свиней, гусей, коз у нас никогда не держали. Был ещё и амбар, и так называемая «подкрыша». Между домом и амбаром – двухполотняные ворота.
Утром, встав и умывшись – иной раз с мылом, а чаще всего без мыла – из рукомойника /умывальника/, мама щепала лучину, совала её под сложенные в печь ещё с вечера поленья и затопляла печь. Отец надевал штаны, вставал перед столом лицом к иконостасу и начинал молиться богу. Заставлял молиться и нас. Полагалось в полголоса, а то и шёпотом читать молитву, креститься и кланяться в пояс или до земли /до полу/. В левой руке держали лестовицу, отсчитывая по ней число поклонов. Моленье считалось законченным, если поклонишься не менее двухсот раз. Легко ли это было –сами поймёте, если за пятнадцатиминутную нынешнюю физзарядку делается движений значительно меньше. Чтобы быстрее отделаться от однообразного, надоедливого моленья, лестовицу перебирали быстро: перекрестишься и поклонишься один раз, а отсчитаешь три. Да и молитвы надоедали. Поэтому иной раз бормочешь, что в голову придет, лишь бы отец и мать, исповедовавшие кержацкую /старую/ веру, не слышали: «Господе Исусе, вперёд не суйся, сзади не оставайся, в серёдке не мешайся».



