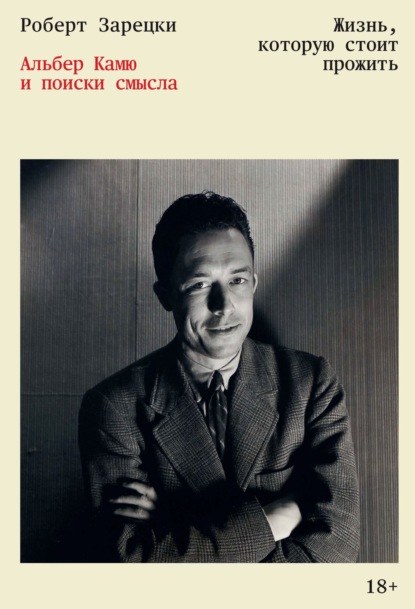
Полная версия:
Жизнь, которую стоит прожить. Альбер Камю и поиски смысла
Если о чем-то может свидетельствовать дошедший до нас стихотворный фрагмент драмы Крития «Сизиф», то, похоже, античный политик и философ освоил миф похожим образом. Критий – между прочим, дядя Платона – писал, что смертные создали богов, чтобы через страх божественной кары утвердить в обществе верховенство закона. Один из персонажей его пьесы возглашает, что «некий муж разумный, мудрый, думаю, для обуздания смертных изобрел богов, чтобы злые, их страшась, тайком не смели бы зла ни творить, ни молвить, ни помыслить бы»[70]. Был ли этим мудрецом на самом деле Сизиф, произнес ли он такие слова до того, как был наказан богами, чье существование отрицал, или они прозвучали в космосе, где никаких богов не было и нет, – неизвестно.
Меняют ли новые детали – и более полный очерк личности Сизифа – наше восприятие его участи? Что ни говори, а в наших глазах изнасилование и преступление закона заслуживают более тяжкого наказания, чем обычное плутовство. Но в наших глазах – или, собственно говоря, в глазах античных греков – и олимпийцы вряд ли могли служить образцом нравственности или, что важнее, справедливости. В конце концов, какая разница, надзирает ли за миром, где Сизиф совершил то, что совершил, множество богов или не надзирает ни один? В обоих случаях трансцедентальная основа отсутствует, и нет абсолютных стандартов, по которым мы можем назначать кару тем, кого считаем преступниками.
Именно таким, безразличным к действиям людей, видит мир гомеровский персонаж, потомок Сизифа троянский герой Главк. На поле боя под стенами Трои Главк встречает другого героя – Диомеда. И пока они готовятся к поединку, тот спрашивает Главка о его происхождении. Ответ Главка – одно из самых запоминающихся мест поэмы:
Высокодушный Тидид, для чего узнаешь ты о роде?Сходны судьбой поколенья людей с поколеньями листьев:Листья – одни по земле рассеваются ветром, другиеЗеленью снова леса одевают с пришедшей весною.Так же и люди: одни нарождаются, гибнут другие[71].Обнаружив, что приходятся друг другу родней, герои обнимаются, клянутся в дружбе и ищут себе новых противников. Иначе говоря, они нашли одну из двух настоящих ценностей в мире, лишенном высшего смысла, – дружбу. И разделяются ради поисков другой ценности – славы. Можем ли мы решить, имея в виду финал эссе, что оба героя счастливы?
Вскоре после Рождества 1940 года, одного из самых холодных в истории Франции, газета Paris-Soir дала Альберу Камю расчет: даже для изданий, специализирующихся на бульварщине и пропаганде, настали трудные и голодные времена. В каком-то смысле обстоятельствам удалось то, в чем не преуспел Камю: он так и не решился сам уйти из газеты, от политики которой его давно тошнило. Кроме того, теперь писатель мог спокойно покинуть нелюбимые места: после увольнения оставаться в метрополии было незачем. В начале января они с Франсиной сели в поезд до Марселя, а оттуда поплыли домой в Алжир. Поскольку работы в столице сразу не нашлось, пара перебралась в Оран, второй по значению город страны, – в квартиру, принадлежавшую семье Фор.
Оран стал подходящим пейзажем для сумрачных дней писателя. У этого города не нашлось ни одной из черт, ярко определявших столицу: ни плавного перехода от кварталов к морю, ни оживленных улиц, ни напряженного интеллектуально-творческого пульса. Нет, Оран был городом, решительно отвернувшимся от моря. Камю жаловался, что не осталось такого места, «которое оранцы не испоганили бы какой-нибудь мерзкой постройкой, способной перечеркнуть любой пейзаж»[72]. Что касается самого города, то «улицы Орана отданы пыли, гальке и зною. Если идет дождь, это уже потоп и море грязи». Эти улицы закручиваются в узлы, образуя лабиринт, в центре которого пешеход находит не Минотавра, а чудовище куда страшнее: скуку[73].
Скука тем более одолевает того, у кого нет работы. Как заметил Камю в разговоре с другом, возвращение в Оран «в таких обстоятельствах вряд ли можно расценивать как шаг вперед»[74]. Не считая случайных заказов на редактуру, несколько недель Камю проболтался без всякого дела. Наконец, он находит должность – порожденную вишистскими антисемитскими законами. Во Франции установили жесткие квоты для еврейских детей в государственных школах, и большому числу молодых людей пришлось искать, где получить образование. В Оране с его немалой еврейской общиной на учителей возник высокий спрос: в марте Камю уже преподает в двух частных школах вместе с еврейскими друзьями, изгнанными из государственных лицеев.
Камю становится мастером на все руки, преподает множество предметов от французского языка до географии и философии, но ни одна из дисциплин не дает ключей к абсурду ситуации. В то же время Камю прекрасно сознает необходимость реагировать на поставленные условия, преодолевать их. Вдвоем с женой они организуют сбор денег и дают приют еврейским друзьям, потерявшим работу из-за расовых квот. Происходят тайные разговоры о сопротивлении: обсуждается как, где и когда, но почти никакого действия за этим не следует. Атмосфера в Оране остается мрачной и гнетущей. Да, у Камю, наконец, есть устойчивый доход, и писатель делает все, что только может, для друзей, но такая жизнь ему невыносима. «Дни тянутся и тяготят меня» – признавался он одному из приятелей[75]. В письме же другому жаловался: «Я задыхаюсь». Как человек, страдавший туберкулезом, Камю прекрасно понимал цену такой метафоры.
Где-то на середине этого тревожного и безотрадного отрезка жизни Камю завершает рукопись «Мифа о Сизифе». Теперь все «три абсурда», включая «Калигулу» и «Постороннего», готовы. Хотя бы в этом отношении Камю может вздохнуть с облегчением. В записных книжках, объявив о завершении работы, он прибавляет: «Начатки свободы»[76]. Как явствует из его трактовки мифа, свободу можно обрести в самых неожиданных местах: даже в Оране или в Аиде.
«Боги обрекли Сизифа вечно вкатывать на вершину горы огромный камень, откуда он под собственной тяжестью вновь и вновь низвергался обратно к подножию. Боги не без оснований полагали, что нет кары ужаснее, чем нескончаемая работа без пользы и без надежд впереди»[77]. Сначала лишь скупо набросав портрет Сизифа, Камю затем наполняет миф красками. Он описывает, как Сизиф «с трудом» катит валун, и отмечает, что перед ним поставлена непростая задача, но все эти непомерные физические усилия как будто отходят для Камю на второй план. Словно пытка, которую боги назначили Сизифу, в первую очередь – а может, и вообще – заключается не в истязании тела, а в глумлении над разумом, озадаченным бесконечным повторением. Для Сизифа, обреченного снова и снова делать одно и то же целую вечность, без отдыха и без цели, под невидящим взглядом Вселенной, размер и вес камня совершенно не важны. Пытка заключается в безостановочном выполнении бессмысленного действия[78].
И поэтому нет смысла менять или облегчать задачу приговоренного: станет ли он катать газонокосилку, вставлять нитку в иголку, бросать мяч в корзину, выносить мусор, стирать запятую, а потом вставлять ее снова – бесконечное повторение действий, не приводящих ни к какому результату, все равно останется пыткой. Мучительность труда Сизифа – не следствие силы тяготения. Нет, он тягостен своей непоследовательностью. Конечно, Сизиф привязан к этому камню, но важнее то, что он привязан к абсурдности своего взаимодействия с ним.
Ричард Тейлор задается вопросом: что, если мы попробуем поменять не задачу Сизифа, а его отношение к ней? Предположим, богам взбрело в голову облегчить его наказание, дав ему наркотик, от которого он полюбит свое занятие и будет хотеть от бесконечной жизни лишь одного: снова и снова закатывать камень на вершину горы? Это, как заключает Тейлор, будет означать освобождение пленника: «Если у Сизифа появится острое и неутолимое желание делать то, что ему вдруг пришлось делать, тогда, никак не поменявшись, его жизнь все же будет иметь для него смысл»[79]. Если так, то мы легко – согласно заключительной строке эссе – «представим Сизифа счастливым».
Однако можем ли мы представить Камю довольным таким поворотом?
В конце января 1942 года у Камю, находившегося в квартире с Франсиной, случился приступ кашля. Спазмы становились все сильнее, в мокроте появилась кровь, и Франсина бросилась но поиски врача. К утру приступы прекратились, но Камю понимал, что это лишь временная передышка. В письме свояченице, Кристин Фор, он признавался: «Я думал, что на этот раз мне конец»[80]. Диагноз врача подтвердил худшие опасения больного: до тех пор было затронуто только левое легкое, но теперь болезнь поразила и правое. С небывалой ясностью Камю увидел, что жизнь дана ему без права обжалования.
Как микобактерии туберкулеза проникли в здоровое легкое Камю, так и расистская политика Виши проникла в повседневную жизнь Орана. В середине 1941 года режим установил многочисленные ограничения в виде квот на профессии: во Франции в профессиях дантистов, врачей и юристов допускалось не более двух процентов евреев. Бросить практику и зависеть от доброты коллег, пускавших его в свои кабинеты, пришлось и врачу Камю Анри Коэну.
Кстати, именно Коэн уговорил писателя переехать, сменить место изгнания. Опасаясь, как бы еще одно сырое лето в Оране не ухудшило состояние пациента, он посоветовал Камю отправиться в санаторий в материковой Франции. Санаторий был Камю не по карману, и он согласился на предложение родни Франсины: пожить на ферме, которой они владели в окрестностях Шамбон-сюр-Линьона, что в Севеннах, на юге Центральной Франции. В августе Альбер и Франсина взошли на пароход и покинули Алжир.
По прибытии в Марсель они сели в поезд и отправились с пересадками сначала до Лиона, затем до небольшой станции Сен-Этьен и, наконец, до Шамбон-сюр-Линьона. Но и там путь Камю, измотанного и задыхавшегося, еще не завершился. У деревенского вокзала они с Франсиной наняли запряженную лошадью тележку, чтобы добраться до Ле-Панелье – горстки обведенных высокой стеной каменных строений, которой и была ферма, принадлежавшая семье Франсины и расположенная в нескольких километрах от деревни.
Конец лета в Севеннах оказался для путешественника целительным. В лесистых долинах, изрезанных ручьями и тропами, царило умиротворение. Подруге в Алжире Камю писал, что «потребуется немалое время побродить по окрестностям», прежде чем он почувствует себя дома на новом месте. В записных книжках Камю высказывается откровеннее: «Я слышу шум источников каждый день. Они текут вокруг меня, через залитые солнцем луга, они приближаются ко мне, и скоро я услышу их шум в себе, этот источник забьет в моем сердце, и я буду думать под его шум. Это забвение»[81]. Порой казалось, что силы природы спешат помочь ему достичь «забвения» – поскорее оставить позади недавний приступ болезни. Пышные лапы хвойных деревьев Камю сравнивал с армией «варваров дня», которые «заставят отступить пугливую армию ночных мыслей»[82].
В начале октября Франсина возвращается в Оран; Камю планирует последовать за ней, когда она найдет в Алжире учительскую работу для них обоих. В Севеннах становится сыро и холодно, большинство других постояльцев фермы, с которыми Камю в любом случае почти не общался, разъехались, и единственной связью с большим миром остаются для него поездки в Сен-Этьен на инъекцию от пневмоторакса: они служат ему, в буквальном смысле, окном во Францию. Через стекло вагона Камю изучает лица крестьян, в ожидании топчущихся на станциях, которые минует поезд, затем рассматривает пассажиров, слоняющихся по вагону. На вокзале в Сен-Этьене наблюдает, как путешественники в молчании «поглощают отвратительную пищу, потом выходят в темный город, толкаясь локтями, но оставаясь чужими друг другу… Отчаянная молчаливая жизнь, которую в ожидании лучшего ведет вся Франция»[83]. Камю задумывается о том, как в будущем сможет понять Францию тот, кто не окунулся в эту атмосферу? Размышляет о лицах и силуэтах «французов, сгрудившихся на небольших станциях»: «Я не скоро смогу забыть их, этих старых крестьян и крестьянок; она вся сморщенная, он с гладким лицом, на котором белеют светлые глаза и седые усы; две зимы лишений пригнули их к земле, латаная-перелатаная одежда лоснится. Народу, познавшему нищету, не до элегантности. В поездах потрепанные, перевязанные веревками и кое-как заделанные картонками чемоданы. Все французы похожи на эмигрантов»[84].
11 ноября 1942 года ожидание внезапно показалось одновременно и недолгим, и зловещим. В ответ на высадку Союзников в Северной Африке немцы перешли демаркационную линию, с 1940 года отделявшую оккупационную зону от свободной Франции, и захватили всю территорию страны. В тот день Камю записывает в дневнике: «Попались как крысы!». Между ним и Алжиром внезапно воздвиглась стена: теперь он не сможет вернуться к семье, друзьям и родным местам. Ситуация абсурдного человека: того, который «способен видеть и познавать лишь окружающие его стены»[85].
В том же месяце, когда Камю оказался заперт во Франции, он узнал, что тираж «Постороннего», изданного «Галлимаром» в том году, хорошо разошелся и предстоит допечатка еще 4400 экземпляров[86]. Это решение было тем более значимым, что бумага в стране на глазах превращалась в драгоценность. Однако Камю, довольного относительным коммерческим успехом книги, совсем не обрадовал ее прием со стороны критиков. В письме школьному другу Клоду де Фременвилю он отмахивается от всех рецензий – и хороших, и посредственных, – поскольку их авторы «исходят из неверного понимания» его романа. Лучше всего «зажать уши» и продолжать работу[87].
И все же одна рецензия, опубликованная в начале 1943 года в уважаемом издании Cahiers du Sud, пробилась сквозь холодное недовольство Камю. Набирающий популярность Жан-Поль Сартр с восхитительной четкостью разобрал роман Камю на двадцати страницах – таким авторам как Уильям Фолкнер или Жан Жироду он уделил в своих рецензиях намного меньше[88]. В статье под названием «Объяснение „Постороннего“» Сартр фильтрует текст романа через россыпь философских наблюдений.
Безусловно, Сартр прочел его глазами парижского интеллектуала, разглядывающего любопытную диковину из отдаленной колонии. Но это не делает его наблюдения менее ценными. Кроме того, «Посторонний» оказался действительно весьма необычным предметом, далеко отстоящим от ривгошистских богемных кафе. Дни Мерсо формируются из череды едва отличимых друг от друга звуков, зримых образов и ощущений, из последовательности событий, которые он перечисляет ровным голосом, почти ничего не поясняя, даже когда убивает на пляже араба и готовится в свою очередь быть убитым за свое преступление руками государства – две бессмыслицы одна за другой. История Мерсо озадачивает читателя. Как понять ее?
По мысли Сартра, ответ зависит от того, что мы называем пониманием. Выискивать смысл в этом повествовании бесполезно: надо понять, что там нечего понимать. В этом и кроется подвох книги, в этом и смысл ее заглавия: «Посторонний, которого он стремится изобразить, – это как раз один из тех простодушных, которые вызывают ужас и возмущают общество, потому что не принимают правил его игры. Он живет в окружении посторонних, но и сам для них посторонний… Да и мы сами, открыв книгу и еще не проникнувшись чувством абсурда, напрасно попытались бы судить Мерсо по нашим привычным нормам: для нас он тоже посторонний»[89].
Наверное, самый знаменитый образ, который создает Камю в «Мифе о Сизифе», чтобы передать бездну бессмысленности, разверзающуюся под хрупкой скорлупой наших верований и убеждений, – это человек, разговаривающий по телефону за стеклянной перегородкой. «Его не слышно, зато видна его мимика, лишенная смысла, – и вдруг задаешься вопросом, зачем он живет»[90]. В некотором смысле, Камю передергивает онтологическую колоду: образ немого спектакля рассыплется, если мы подслушаем беседу героя, даже хотя бы только его реплики. Осмысленность восстановится в мире, который на минуту показался нам абсурдным. На этом основании философ Колин Уилсон отвергает образ Камю как вводящий в заблуждение: человек с телефоном «лишен существенных „черт“, которые помогли бы нам завершить картину»[91].
По тем же причинам неубедительным этот образ счел в своей рецензии Сартр: «В самом деле, жесты человека, который разговаривает по телефону и которого вы не слышите, абсурдны лишь относительно, ибо являются звеньями разорванной цепи. Откройте дверь, приложите ухо к телефонной трубке – цепь восстановится, человеческие поступки вновь обретут смысл»[92]. Не в пример Уилсону, однако, Сартр понимает, что Камю не выдвигает аргумент, а представляет метод – «речь сейчас идет не о честности, речь идет об искусстве», – метод, как показать мир прозрачным и в то же время непроницаемым. Подобная эстетика, в свою очередь, обнажает ту правду о человеческой ситуации, до которой не добраться формальным рассуждением: мы живем в мире, отказывающемся транслировать смысл, и поэтому наши действия и слова рискуют превратиться в произвольные судороги.
Сартр говорит, что эти действия не менее бессмысленны, чем у героев столь же лаконичных и телеграфных сочинений Вольтера. В конце концов, стеклянная перегородка – это способ создать вид ниоткуда. Главный герой Вольтеровского «Микромегаса» – пришелец с далекой планеты, который при росте 20 000 футов не может ни видеть, ни слышать обитателей Земли, – заключает, что эта планета никем не населена. И даже имея возможность нас видеть, много ли смысла разглядел бы он в нашем копошении? Но абсурд, наполняющий космос «Кандида» или «Микромегаса», – сатирический. Смех читателя опрокидывает шаткую конструкцию реакционных политических и религиозных ценностей, которые не давали покоя Вольтеровской эпохе Просвещения. С «Посторонним» же нет никаких указаний на то, что просвещение приведет к пониманию – во всяком случае той форме понимания, которую опознал бы Вольтер.
Конечно, немногое так способствует сосредоточению разума, как предстоящая завтра казнь. Вместе с тем, в случае Мерсо речь идет даже о формировании разума. После заключения в тюрьму и суда за убийство араба у героя на наших глазах проявляется самосознание. Он задумывается о себе, но причиной этой рефлексии становится общество, которое чурается его – аутсайдера, лишившегося права жить среди людей. Прокурор, заглянувший в душу Мерсо, ошеломляет присяжных заявлением: он не нашел там «ничего человеческого»[93]. На деле же виной тому стеклянная перегородка между прокурором и Мерсо.
В уединении тюремной камеры Мерсо находит самого себя. Заснув на койке после ожесточенной стычки с посетившим его священником, он пробуждается лицом к окну, за которым видно ночное небо. «Перед этой ночью, полной загадочных знаков и звезд, я впервые раскрываюсь навстречу тихому равнодушию мира»[94]. В этой сцене воссоздаются последние дни Жюльена Сореля, героя романа Стендаля «Красное и черное». Этого автора, творившего в XIX веке, Камю часто упоминает в дневниках, не раз восхищаясь его лаконичным стилем и беспощадным пониманием природы человека. Но не меньше Камю впечатлил вызов, брошенный Сорелем болоту лицемерия и притворства, которое мы называем обществом. Как и Мерсо, запертый в камере перед казнью, Жюльен понимает, что по-настоящему счастлив был лишь неискушенным юнцом; что он тоже, вытолкав из своей камеры навязчивого кюре, предается последним размышлениям; что он тоже, в обреченном на провал поиске цельности и смысла находит вместо них абсурд: «Мушка-однодневка появляется на свет в девять часов утра в теплый летний день, а на исходе дня, в пять часов, она уже умирает; откуда ей знать, что означает слово „ночь“?»[95].
Разумеется, связывая абсурд с французской Реставрацией, мы рискуем погрешить против истории. Как и любое философское понятие, абсурд родился в некое время в некоем месте. Согласно формулировке Терри Иглтона, хотя о смысле жизни задумываются все люди, «некоторым, по историческим причинам, приходится думать о нем старательнее остальных»[96]. Именно это, как мы убедились, и происходило с Францией – и Камю – в 1940 году.
Однако уже в 1946-м, спустя каких-то четыре года после публикации «Постороннего» и «Мифа о Сизифе», философ Альфред Айер, в то время чиновник британского посольства в освобожденном Париже, громко заявил об ограничениях термина «абсурд». В эссе о Камю английский апологет логического позитивизма признает это понятие бессмысленным в самом прямом смысле. Англо-американские философы, как поясняет Айер, не понимают того, каким образом Камю применяет термины «логика» и «разум». Абсурд «сводится к тому, что современные кембриджские философы назвали бы „бессмысленной жалобой“»[97]. Вместе с тем Айер признает, что под поверхностью текста у Камю обнаруживается определенная истина, какой бы неловкой и неприятной они нам ни казалась. Нельзя не заметить «эмоционального напряжения», которым пульсирует текст. Айер добавляет: «Я и сам почувствовал немалую симпатию к ценностям, которые Камю связывает здесь с доктриной абсурда»[98]. Мало того, Айер соглашается, что вопросы, поставленные Камю, метафизически обоснованны. Правда, для Айера похвала в этом невелика: «Метафизические они потому, что ответить на них с отсылкой к какому-либо мыслимому опыту невозможно»[99].
Спустя много лет в мемуарах Айер писал о своем восхищении писательским даром и личностью Камю, которому, по воспоминаниям философа, были свойственны «безупречная честность и моральная отвага». Похоже, честность Камю оказалась столь безупречной, что при личном знакомстве с Айером он согласился с его критикой. Айер в мемуарах вспоминал: «[Камю] возразил лишь насчет того, что я писал, будто в молодости он преподавал философию в Алжире, тогда как на самом деле он был профессиональным футболистом». Камю никогда не был профессиональным спортсменом, и, видимо, Айер не понял сказанного по-французски или смысл шутки Камю, а скорее всего, ни того, ни другого[100]. Но еще более очевидно то, что Айер не смог понять главного послания «Мифа о Сизифе». В сущности, его самодовольный вывод о том, что «метафизические» вопрошания автора не имеют ответа, только лишний раз иллюстрирует ни в коем случае не самодовольную «жалобу» Камю.
В начале 1970-х подобную смесь снисхождения и уступки явил философ Томас Нагель, считавший, что большинство людей «временами видит жизнь как абсурд, но у кого-то это ощущение бывает длительным и ярким». Однако причины этого переживания, предложенные Камю, по мнению Нагеля, «абсолютно неадекватны»[101]. Вторя формалистской самоуверенности Айера, он объявляет: «Стандартные доводы в пользу абсурда нельзя признать доводами вообще»[102]. При этом Нагель чувствует подводное течение скрытых истин, до которых не добраться умозаключениями. Хотя с позиций логики эти доводы сильно хромают, они тем не менее «пытаются донести послание, которое непросто формулируется, но по сути верно»[103]. Нагель допускает, что эта неудачная аргументация действует потому, что отражает некую устойчивую правду о нашей жизни: то потрясение, испытываемое нами, когда мы смотрим на себя со стороны «взглядом ниоткуда» и внезапно сознаем диссонанс между той первостепенной важностью, которую приписываем нашим повседневным делам, и их абсолютной незначительностью. Соображения, представлявшиеся нам убедительными, теперь кажутся не более упорядоченными, чем торнадо, который сметает один дом, не задев соседний. «Мы видим себя со стороны, и вся случайность и специфичность наших целей и занятий становится очевидной, – резюмирует Нагель. – И все же, когда мы принимаем такую точку зрения и признаем свои поступки произвольными, это не освобождает нас от жизни, и вот тут и начинается абсурдность»[104].
Эта способность посмотреть ниоткуда, присущая лишь людям и вплетенная в ткань сознания, – и благо и бремя нашего бытия. Нагель возводит наше чувство абсурдности не к конфликту между поиском смысла и безмолвием мироздания, а к «противоречию внутри нас»[105]. Однако едва ли этим объясняется, что Камю у него предстает «романтическим и немного жалеющим себя» писателем. Лишь только мы поймем космическую незначительность нашей ситуации, как заключает Нагель, нам придется смотреть на вещи с иронией[106].
И вот спустя четверть века Терри Иглтон в свою очередь избирает вслед за Айером и Нагелем все тот же тон холодной учтивости. «Трагическая непокорность Альбера Камю, столкнувшегося с якобы бессмысленным миром, на самом деле – часть проблемы, а не ответ. Вы почувствуете тошнотворную бессмысленность нашего мира – взамен старой доброй просто бессмысленности – только в случае, если у вас с самого начала были завышенные ожидания»[107].
Видимо, к иронии те, чья жизнь пришлась в основном на годы после Второй мировой, прибегают легче, чем те, кому довелось войну пережить. Но различие между Айером, Нагелем и Иглтоном с одной стороны и Камю с другой, лежит не только в области стиля. Именно ирония как выход и есть болезнь, которая притворяется лечением. Как предполагает Джеффри Гордон, в беззаботной отмашке Нагеля можно «увидеть знак нового этапа нашего духовного кризиса, этапа, на котором, устав скорбеть, мы пытаемся уверить себя в незначительности того, о чем скорбим»[108]. Далекая от позерства озабоченность Камю, ставящего вопрос о смысле, идет от интуитивного осознания масштабов проблемы. Ироническое отстранение равносильно надеванию философских шор. Но для человека, отринувшего их, как пишет Камю, «нет зрелища прекраснее, чем разум в схватке с превосходящей его действительностью»: «Обеднить действительность, которая своим бесчеловечием питает величие человека, – значит обеднить самого человека. И я понимаю, почему учения, берущиеся объяснить мне все на свете, тем самым меня ослабляют. Они облегчают груз моей жизни»[109].

