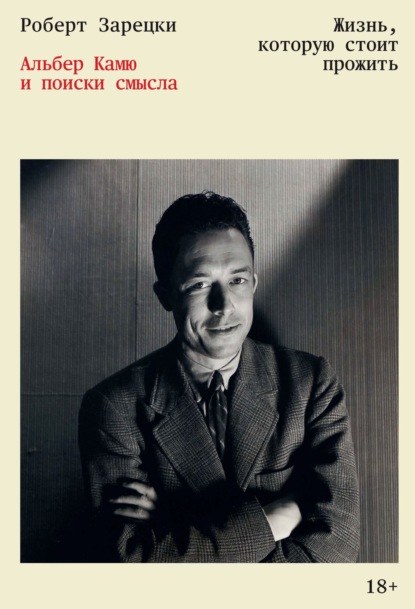
Полная версия:
Жизнь, которую стоит прожить. Альбер Камю и поиски смысла

Роберт Зарецки
Жизнь, которую стоит прожить. Альбер Камю и поиски смысла
Robert Zaretsky
A Life Worth Living: Albert Camus and the Quest for Meaning
© 2013 by the President and Fellows of Harvard College
© Н. Мезин, перевод с английского, 2024
© ООО «Издательство „Эксмо“», 2024, 2025
Individuum ®
Пролог
Мне не уступят даже мою собственную смерть. А между тем мое самое заветное желание на сегодня – тихая смерть, которая не заставила бы слишком переживать дорогих для меня людей[1].
Предсказание, сделанное Альбером Камю в последнее десятилетие его жизни, сбылось, а его желание – вряд ли. На наших глазах вокруг творческого наследия великого алжирца закипают бурные споры.
Вскоре после избрания президентом Николя Саркози отправился в Алжир с государственным визитом. Этот визит привлек необычайно широкое внимание во многом потому, что новый президент имел репутацию откровенного консерватора, который не видит в колониальном прошлом Франции никаких поводов для покаяния. Одним из пунктов в программе визита было посещение Типасы, города на берегу Средиземного моря. Этот город может похвастаться не только поразительным множеством римских руин – свидетельством более раннего колониального проекта, – но еще и тем, что здесь несколько раз за свою недолгую жизнь побывал Альбер Камю.
Глубокая духовная связь Камю с этими местами отразилась в двух его самых лирических эссе – «Брачный пир в Типаса» и «Возвращение в Типаса». Первое из них создано в 1936 году юношей в поиске себя и с великими намерениями, и пребывание автора в Типасе описывается в откровенно эротическом ключе: «Всё, кроме солнца, поцелуев и диких запахов, кажется нам пустым… Здесь мне нет дела до порядка и меры. Меня всецело захватывает необузданное своеволие природы и распутство моря»[2].
Почти двадцатью годами позже писатель – уже всемирно признанный, но не нашедший мира с самим собой – вновь приезжает в Типасу. Приближаясь к ней, он вспоминает, как побывал здесь сразу после окончания Второй мировой. Война изменила облик античного города: солдаты и проволочные заграждения окружили древние колонны и арки, среди которых он когда-то позировал – без рубашки, улыбаясь в окружении подружек. В тот послевоенный приезд разум Камю тоже словно был в осаде, конечно, на фоне мира, впавшего в гибельное безумие. «Рушились империи, люди и нации вгрызались друг другу в глотку, наши уста были осквернены». Но тогда же была и юность, теперь покинувшая его навсегда: «На прибрежных холмах, некогда любимых мной, средь мокрых колонн разрушенного храма мне чудилось, будто я иду вслед за кем-то, чьи шаги еще звучат на плитах и мозаике пола, но кого я никогда уж не догоню»[3].
Впрочем, эти невеселые картины вытесняются куда более старыми образами, которые в то же время «моложе и наших строек, и наших развалин». Незыблемое великолепие Типасы, как понимает Камю, упрямо сопротивляется безумию нынешнего мира: «Я снова нашел здесь древнюю красоту и юное небо и оценил, как мне повезло, когда понял наконец, что в худшие годы нашего безумия память об этом небе никогда не покидала меня. Это оно спасло меня от отчаяния». Тогда Алжир сползал в гражданскую войну, и, хотя Камю обходится без явного упоминания уже начавшейся драмы, он будто укрепляет свой дух перед погружением в нее: «Я не мог отречься от света, среди которого родился, и в то же время не хотел отказаться от обязательств, налагаемых нашей эпохой»[4].
Перед немногочисленной массовкой, добросовестно машущей флагами обеих стран, президент Саркози, устремив взгляд на море, выслушал фрагмент «Брачного пира в Типаса», прочтенный кем-то из окружения[5]. Видимо, «Возвращение в Типаса» показалось бы слишком двусмысленной или слишком злободневной отсылкой. Как бы то ни было, съемка окончилась, актеры и публика расселись по машинам, и президентский кортеж покатил к следующему пункту программы, оставив позади руины храма и юное небо – столь же далекие от политических демонстраций, как и тонкий смысл и высокая красота произведений Камю.
Через три года, в 2010-м, с приближением пятидесятилетней годовщины смерти Камю, вокруг его имени вновь развернулись политические игры: Николя Саркози предложил перенести останки писателя в Пантеон. Левые политики тут же принялись обвинять президента в том, что он пытается апроприировать наследие Камю ради политической выгоды. Они требовали, чтобы прах писателя остался в Лурмарене – прованской деревне, где Камю оказался вскоре после войны и куда с помощью друга, поэта Рене Шара, переселился за несколько лет до гибели. Правые, причисляющие Камю к неоконсерваторам avant la lettre[6], публично оскорбились подобными обвинениями. По разные стороны в этом конфликте оказались и дети Альбера Камю, близнецы: его сына Жана возмутили попытки поднять отца на знамя правых, а дочь Катрин, распоряжающаяся литературным наследием Камю, решила, что «пантенионизация» станет достойным венцом человеку, который всю жизнь стремился говорить от имени тех, кто лишен голоса[7].
Останки Камю по-прежнему покоятся в Лурмарене, а вот отношение к содержанию и значению его литературного наследия никогда не будет бесстрастным[8] – отчасти из-за алжирского происхождения автора. В романе Аликс де Сент-Андре «Папа в пантеоне» (Papa est au Panthéon) государственные чиновники приходят к дочери писателя-вольнодумца по фамилии Берже (легко узнаваемый шарж на Андре Мальро) после того, как президент Франции решил внести в Пантеон. Да, причины решения политические. Как говорит дочери Берже директор Пантеона, пантеонизация – это экономика чистой воды: «Мы собираем студентов, выводим республиканскую гвардию, выпускаем почтовую марку: и все это бесплатно». Государство получает рекламу безвозмездно, автоматически и повсеместно. Впрочем, есть одно условие: «Нужен правильный клиент». Одни «знаковые авторы» слишком уж католики (Шарль Пеги и Франсуа Мориак), другие чересчур коммунисты (Луи Арагон и Поль Элюар); кто-то не тянет на участника Сопротивления (Андре Жид), а кто-то откровенный чудак (Марсель Пруст). А Сартр? Директор отмахивается со смешком: этот «по-прежнему вечно не о том». Затем он упоминает Камю, как еще одного, кому отказано: его подвел Алжир[9].
Немногие писатели испытывали такие сложные чувства по поводу своей личной и национальной идентичности, как Альбер Камю. Он был из «черноногих»: так прозвали иммигрантов, в XIX и XX веках переселившихся во Французский Алжир из Европы, чтобы стать гражданами Франции, частью нации, чьим языком они не владели, чьей истории не знали и на чью землю вряд ли надеялись ступить. Тогда этому не придавали особого значения: Алжир считался частью Франции, а не другой страной со своим народом, состоящим из нескольких миллионов арабов и берберов, которые не имели французского гражданства. К 1950-м годам Камю напоминал своего мифического героя Сизифа, но был навечно связан не с горой, а с трагической безысходностью сопротивления Алжира иностранной – французской – оккупации. Много лет Камю бился над решением, которое принесло бы справедливость и арабам, и поселенцам, рисковал жизнью в поисках этого невозможного примирения. Он потерпел неудачу и замолчал – и хранил молчание до самой смерти в 1960 году.
Во Франции фигура Камю-алжирца остается предметом раздоров, но тем временем в Алжире наметилась тенденция к согласию: все больше писателей признают его своим. Это особенно заметно начиная с середины 1990-х годов и гражданской войны, которую государство вело против исламских фундаменталистов. Алжирская писательница (и член Французской академии) Ассия Джебар включила Камю в список жертв политического режима. По ее словам, Камю явился одним из «провозвестников алжирской словесности» – братской душой, которую она призывает, чтобы вместе всматриваться в прошлое родной страны и осмыслять его кровавый хаос[10]. В том же ключе высказался во время недавней дискуссии о недостатке мечетей во Франции Абделькадер Джемай, автор романа «Камю в Оране» (Camus at Oran), напомнив о том, как писатель восхищался прекрасной простотой арабских кладбищ. Посетив Лурмарен, Джемай написал: «[Могила Камю] очень похожа на могилы моих ушедших родных»[11].
Этих литераторов привлекает в Камю не столько его принадлежность алжирской культуре, сколько универсальность его размышлений. И здесь заключена еще одна причина того, что Камю по-прежнему тревожит наши умы. Что из Парижа, что из Типасы, он и сегодня выглядит человеком, чья жизнь служит примером редкого беззаветного героизма. Его яростный бунт против того, как французское государство обходится с арабами и берберами, сугубое презрение к вишистским антисемитским законам, упорное неприятие смертной казни и бесстрашные попытки способствовать гражданскому примирению в охваченном войной Алжире – все это было поведением человека, стремящегося жить в согласии со своими ценностями. Получалось не каждый раз. Например, в последние месяцы оккупации и первые месяцы освобождения Франции Камю задушил в себе стойкое отвращение к смертной казни и не только оправдывал, но и приветствовал смертные приговоры коллаборационистам, чьи деяния во время войны несли гибель французам. Позже он изменил позицию, публично раскаявшись, и это говорит о моральной последовательности Камю, но вместе с тем от его статей военной поры, призывающих к скорой и безжалостной расправе, по коже пробегает холодок[12].
Разумеется, такие метания лишь напоминают нам, что Камю был человеком, как и мы: очевидность, которую нам порой застит, особенно ныне, наша отчаянная нужда в героях. Но, пожалуй, еще важнее, что они показывают: Камю сам знал о собственных недостатках и пытался через тексты и поступки их объяснить. Вспоминая о своих взглядах на смертную казнь в военное время, в программной лекции 1948 года, о которой еще зайдет речь, он заявил, что заблуждался. А в его повести «Падение» нетрудно разглядеть, помимо прочего, безжалостно откровенное признание в нескольких изменах жене Франсине. (Так, по крайней мере, трактовала этот текст сама Франсина Камю. «Этим ты обязан мне», – сказала она Альберу, имея в виду коммерческий успех книги[13].)
Именно его вечный непокой, злополучная неспособность утешать себя объяснениями, которые мы даем своим или чужим поступкам, проклятый дар заставлять не только себя, но и тех, кто рядом, пересматривать то, во что верил без вопросов, делает Камю столь важной фигурой. Он взял за обычай, по выражению Тони Джада, «смотреться в зеркало собственного морального дискомфорта»[14]. А его работа и жизнь становятся таким зеркалом для всех нас. То было время, как развивает мысль Джад, когда настоящим моралистом становился тот, кто «не только других заставлял беспокоиться, но и самому себе причинял, по крайней мере, не меньший дискомфорт»[15].
Моралист – не морализатор. У последнего есть ответы еще до того, как перед ним поставят вопрос, у первого же вопросы возникают лишь после того, как он услышит предлагаемые ответы. И это такие вопросы, которые, как говорят французы, déranger – возмущают или, более дословно, ворошат то, что было упорядочено. Камю был моралистом именно в этом смысле. Вопросы, что он поднимал, не отбросили его ни к одиночеству, ни к нигилизму: напротив, они привели к альтруизму и особого рода моральной требовательности. Камю был моралистом, который твердо держался мнения, что и в абсурдном мире, не дающем никакой надежды, люди не приговорены к отчаянию; который напоминал нам, что, в конечном счете, все что у нас есть в безразличном и безмолвном мире – это мы сами:
В самом мрачном нашем нигилизме я искал только повод его преодолеть. И отнюдь не из отваги или там редкостной возвышенности души, но из инстинктивной верности свету, в котором я родился и где уже миллионы лет люди научились славить жизнь даже в страдании… Сохранившимся до нашего иссушенного века упрямым и стойким сыновьям Греции ожог нашей истории должен казаться невыносимым, но они его все-таки выдерживают, ибо силятся его понять. В центре нашего творчества, будь оно как угодно мрачным, светит неистощимое солнце, то же самое, которое неистовствует в долине и на холмах[16].
Страдание – главный опыт в жизни и работе моралиста. Несомненно, это убеждение задает тон обжигающему началу раннего эссе Камю «Миф о Сизифе»: «Решить, стоит или не стоит жизнь того, чтобы ее прожить, – значит ответить на фундаментальный вопрос философии»[17]. Для многих из нас – включая, по всей вероятности, и тех, кто сам пока не знает, что тоже из этого числа – в словах Камю в самом деле заключен фундаментальный вопрос. Стоит ли продолжать такую жизнь, неизбежно полную боли и утрат? Древние греки, чья культура была важнейшим источником вдохновения для Камю, знали точно: у страдания есть свои преимущества. Как поет хор в «Орестее», трагедии любимого Альбером Камю Эсхила, «через муки, через боль Зевс ведет людей к уму, к разумению ведет»[18]. Замечание Марты Нуссбаум о воспитательной роли страдания в греческой трагедии тоже прочно опирается на точку зрения Камю: «Есть такой способ познания, который осуществляется через страдание, поскольку страдание есть подобающий способ признания человеческой жизни как таковой»[19]. Достижение греческой трагедии заключается в том, что она не дает ни выводов, ни ответов. Напротив, она ценна тем, что умеет «ясно увидеть и описать конфликт и признать, что выхода из него нет. Лучшее, что может сделать человек – принять страдание, природное выражение добродетели его характера, и не подавлять эту реакцию из-за необоснованного оптимизма»[20].
Конечно, это наблюдение применимо и к жизни, и к творчеству Камю, но есть тонкость. Для Камю страдание было не в большей степени ответом, чем осознание абсурдности бытия. Как ранние эссе вроде «Брачного пира в Типаса», так и последний его роман «Первый человек» с ошеломительной силой показывают, что Камю любил этот мир. Люди, безразличные к окружающей их красоте, слепые к чувственному обаянию пейзажей его родного Средиземноморья и не верящие в человечество, настораживали его. Моралистом в эпикурейском понимании может быть лишь сенсуалист. И не только реальность его страдания, но и укорененность в мире позволили Камю провозгласить без единого грана сентиментальности: «В разгар зимы я понял наконец, что во мне живет непобедимое лето»[21].
Работая над первой книгой о Камю – «Альбер Камю: стихия жизни» (Albert Camus: Elements of a Life), – я постарался объяснить его концепции и литературное творчество через контекст, выстроив рассказ вокруг четырех ключевых моментов жизни писателя. Я считал и, будучи историком, считаю поныне, что в таком подходе есть большой потенциал. Но все же той книгой я остался недоволен: увлекшись историческим контекстом, я обделил вниманием определенные интеллектуальные и моральные темы, которые мы привыкли ассоциировать с творчеством Камю. Одни из них, например абсурд, – это элементы человеческой ситуации, другие, например верность и мера, – добродетели, которые человечеству следует приобрести; а иные, такие как бунт и молчание, – стихийные и этические аспекты нашего бытия. Одним словом, все это необходимые, по моему убеждению, инструменты для поиска того, что́ есть жизнь, которую стоит прожить.
Абсурд
«Есть лишь одна по-настоящему серьезная философская проблема – проблема самоубийства. Решить, стоит или не стоит жизнь того, чтобы ее прожить, – значит ответить на фундаментальный вопрос философии. Все остальное – имеет ли мир три измерения, руководствуется ли разум девятью или двенадцатью категориями – второстепенно. Таковы условия игры: прежде всего нужно дать ответ»[22].
Одно из самых дерзких заявлений XX века, первые строки «Мифа о Сизифе» Альбера Камю, не встретили одобрения у блестящего писателя и интеллектуала Андре Мальро. Редактор крупнейшего издательства «Галлимар», в свое время глубоко впечатленный другой рукописью Камю, романом «Посторонний», счел его новое сочинение натужным и путаным. «Начало как будто топчется на месте. Сказав однажды, что речь пойдет о суициде, незачем это повторять снова и снова», – советовал он Камю[23].
Мальро ошибался: речь в «Сизифе» идет не о суициде, а об абсурде человеческого бытия. Если мы однажды оказываемся в «мире, вдруг лишенном иллюзий и света», и при этом все же настойчиво ищем смысла, но слышим в ответ только «непостижимое безмолвие вселенной», и если вполне постигаем значение этого безмолвия, как утверждает Камю, то самоубийство внезапно становится единственно возможным решением[24]. Именно поэтому, как бы ни морщился Андре Мальро, знаменитая первая строчка «Сизифа» все равно требует внимания. Ответа по-прежнему нет, и значит, этот пассаж представляет не только исторический или биографический интерес. Где искать смысл и что будет, если поиск окажется безуспешным, – это вечно насущные вопросы.
Однако стоит нам подступить к этой проблеме, мы видим, что традиционная философия помочь здесь бессильна. Она никак не проясняет этот предмет, по словам Камю, «одновременно столь скромный и столь эмоционально нагруженный»[25]. И, вероятно, поэтому многие профессиональные философы утверждали, а некоторые утверждают и поныне, что проблема – ложная, и что она подобна тусклому блеску ручья, замутненного ошибками в формальной логике или неверным употреблением языка. Но ряд философов и сегодня упрекают свою профессию в неспособности осмыслить упрямое присутствие абсурда в нашей жизни. «[Абсурд] отравляет повседневность и бросает на любой наш опыт отблеск бессмысленности… И мы видим, что отчаянно пытаемся двигаться быстрее в никуда или стараемся „занять себя“», – пишет Роберт Соломон[26]. Томас Нагель в менее патетичных, но не менее выразительных словах сравнивает абсурд с неким «взглядом из ниоткуда». Этот взгляд отрывает нас от личного опыта повседневности и заставляет примерить внешнюю точку зрения, открывает перспективу, которая сметает все наши представления и предположения о самих себе. Этот взгляд обращает нас к истинам, которые одновременно тривиальны и оглушительны: нам вообще незачем было рождаться, а когда мы умрем, мир продолжит вертеться, не замедлившись ни на миг. «Глядя на себя со стороны, – отмечает Нагель, – трудно принимать свою жизнь всерьез». В эти-то моменты мы и сталкиваемся с абсурдом – «подлинной проблемой, которую невозможно не замечать»[27].
Именно потому Камю и решает отбросить методы и лексикон традиционной философии. «Миф о Сизифе» – не цепь рассуждений, а, скорее, вал впечатлений, то глубоко личных, то литературных, но неизменно ярких и тревожных. «Миф о Сизифе» представляет собой эссе: жанр, в котором работал один из вдохновителей Камю, Мишель де Монтень. В своем сочинении Камю пускается в погоню за извечной целью философии – задается вопросами, кто мы есть, где мы можем, если можем вообще, найти смысл жизни, и какое знание о себе и о мире нам доступно на самом деле, – причем не столько ради того, чтобы дать ответ, сколько ради продолжения поиска. То, что его размышления «предварительны», беспокоило Камю не больше, чем Монтеня – изменчивость его автопортрета[28]. В сущности, «Мифом о Сизифе» писатель достигает того же эффекта, который философ Морис Мерло-Понти приписывает текстам Монтеня: Камю помещает «сознание, изумляющееся самому себе, в центр человеческого бытия»[29].
Только у Камю это изумление порождается столкновением человека с миром, который упрямо отказывается открыть свой смысл. Оно возникает, когда наша потребность в смысле разбивается о безразличие мира – абсолютное и незыблемое. И значит, абсурд не самостоятельная сущность; он не присутствует в мире, а изрыгается той пропастью, что отделяет нас от немого мира. «Сам по себе мир просто неразумен, и это все, что о нем можно сказать. Абсурдно столкновение между иррациональностью и исступленным желанием ясности, зов которого отдается в самых глубинах человеческой души. Абсурд равно зависит и от человека, и от мира. Пока он – единственная связь между ними»[30].
Как предупреждает Камю, рассуждение об абсурде приобретает остроту, неведомую традиционной философии: никто, по его заявлению, не умирал в доказательство существования. Даже великие исследователи абсурда – мыслители, которые изгибали свой разум, чтобы прийти к четкому выводу – за редким исключением в последний момент сворачивали с пути. Так Камю заявляет, что Кьеркегор первым отвел глаза, встретив немигающий взгляд абсурда. «Скачок веры» этого датского мыслителя был вовсе не героическим прорывом к ясности и логичности, а, в сущности, философским самоубийством. Вместо того, чтобы нырнуть в мир, где правит абсурд, Кьеркегор возвращается к Богу, которому придает «атрибуты абсурда. Бог несправедлив, непоследователен, непостижим»[31]. Даже абсурдный бог для Кьеркегора предпочтительнее непостижимой пустоты.
Как и более ранний христианский мыслитель Блез Паскаль, которого, как известно, пугало «безмолвие этих необъятных пространств», Кьеркегор ужасается перспективе прожить абсурдную жизнь. Камю, однако, стоит на том, что для абсурдного человека «поиск истины не есть поиск желательного»[32]. При этом, по его словам, нам не следует бросать наших поисков, пусть даже ради того, чтобы яснее услышать молчание мира. В сущности, молчание обнаруживается, когда в уравнение добавляется человек. Если «должно говорить даже молчание», то лишь потому, что этого неизбежно требуют те, кто способен слышать[33]. А если молчание продолжится, то где нам найти смысл? И что нам делать, если найти его не получится? Как тратить наши жизни, если никто не гарантирует, как некогда это делала религия, трансцендентального оправдания мира и его обитателей?
Вопрос, по Камю, заключается в том, «можно ли жить не подлежащей обжалованию жизнью»[34].
Как литературная и философская тема абсурд впервые встречается в дневниках Камю в мае 1936 года – в том же месяце, когда писатель защитил в Алжирском университете диссертацию по неоплатонизму. «Философская работа: абсурд» – добавляет он пункт в исследовательский и рабочий план[35]. Спустя два года, в июне 1938-го, абсурд вновь появляется в списке целей, а в конце того же года – в третий раз. Еще на этапе сбора данных и предварительного осмысления Камю решил более или менее одновременно разобрать тему в трех различных жанрах: романа, драмы и эссе. Над пьесой «Калигула», хотя впервые ее поставили в 1945 году, он начал работать еще в 1938-м. Черновик «Постороннего» Камю завершил за несколько дней до того, как немцы прорвались в Арденнах в мае 1940 года. И тогда же, когда Франция еще казалась если не вечной, то, по крайней мере, надежной и сильной, он взялся за сочинение, которое описал своему бывшему преподавателю Жану Гренье как «эссе об абсурде»[36].
Примерно в то же время Камю узнал о другом молодом и пока никому не известном французском писателе, которого тоже захватила тема абсурда. В 1938 году Камю поступил на работу к матерому газетчику Паскалю Пиа, основателю независимой газеты Alger républicain. Учитывая стесненность издания в средствах, Камю быстро оказался завален разнообразными обязанностями, и одной из них было книжное обозрение. Внимание Камю вскоре привлекли две тоненькие книжечки: «Стена» и «Тошнота» Жан-Поля Сартра. В этих выдающихся произведениях Сартр рисует мир, утонувший в полной непредсказуемости. Захваченные глубинным течением событий, которым нет высшего или внешнего объяснения, как замечает Сартр, мы испытываем тошноту. А что еще можно чувствовать, обнаружив, что события, казавшиеся осмысленной историей, на самом деле полностью хаотичны, что наши действия, когда-то имевшие цель, полностью машинальны, а мир, служивший нам домом, представляет собой совершенно чуждое пространство?
Однако при всей их художественной силе рассказы Сартра, по мнению Камю, не предлагали ничего, кроме некоего экзистенциального солипсизма. Несомненно, «жестокая и драматичная вселенная», диктующая законы в рассказах «Стены», увлекала, но что нам взять от героев, неспособных сколько-нибудь осмысленно распорядиться собственной свободой? Подобным же образом в «Тошноте» Камю восхитило, как описана угнетающая глупость мира, но возмутил вывод о том, что «жизнь трагична оттого, что жалка». Напротив, трагическое ощущение жизни заложено в «величественной и прекрасной» природе мира – без красоты, без любви и без опасности «жизнь была бы, пожалуй, даже слишком легкой». С вершины юности Камю провозглашает: «Вывод о том, что жизнь абсурдна – не финальная точка, а лишь отправная… Меня интересует не само открытие [абсурдного характера жизни], а какие уроки мы из него можем извлечь и как вести себя дальше»[37].
Камю, при всей его молодости, был ветераном абсурда. Ребенком он потерял отца, павшего в бессмысленной мясорубке битвы на Марне; подростком атлетичный Альбер однажды закашлял кровью, и выяснилось, что он болен туберкулезом; работая репортером в Alger républicain, Камю увидел за фасадом всеобщих ценностей свободы и равенства, провозглашенных Французской республикой, мрачную реальность арабов и берберов, живущих под гнетом колонизаторов. Став редактором газеты, он яростно обрушивался на бессмысленность мировой войны, которой, как он, убежденный пацифист, прекраснодушно считал, можно было избежать. Освобожденный от призыва из-за туберкулеза, пацифист Камю тем не менее пытался поступить на военную службу: «Война не перестала быть абсурдной, но нельзя не участвовать в игре лишь потому, что она может стоить тебе жизни»[38].

