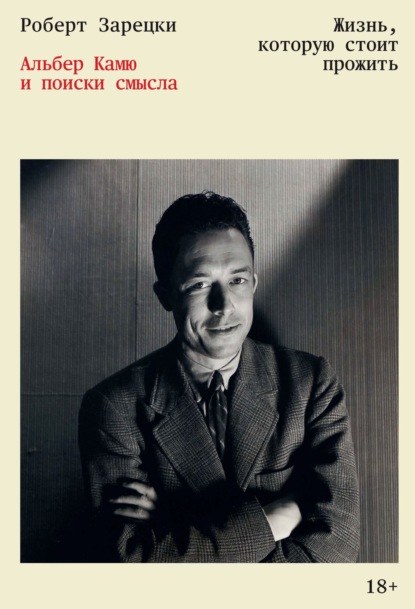
Полная версия:
Жизнь, которую стоит прожить. Альбер Камю и поиски смысла
Иначе говоря, Камю уже основательно погрузился в разбор тех уроков, которые можно извлечь из абсурдности мира. Своими убеждениями он делился не только с читателями, но и с невестой, Франсиной Фор (пара дожидалась окончания бракоразводного процесса Камю и Симоны Ийе, эффектной красавицы, которую писателю при всех его стараниях не удалось излечить от пристрастия к наркотикам). Камю говорил Франсине, что войну считают бессмысленной почти все, но это не меняет ровным счетом ничего, покуда люди продолжают жить, как жили всегда. Его больше интересовали этические следствия этого прозрения: «Я хочу вывести из этого гуманистический образ мысли, четкий и скромный, – определенную модель поведения личности, когда жизнь противостоит жизни, какова она есть, а не грезам»[39].
В итоге именно последовательность Камю в вопросах этики обернулась закрытием газеты Alger républicain в 1940 году. Местные власти и так едва терпели его, беспрестанно осуждавшего то, как французы обращались с арабами и берберами, а после объявления войны в сентябре 1939-го он удвоил старания. Не испытывая никаких иллюзий по поводу гитлеровской Германии – «зверского режима, где человека не ставят ни во что», – Камю в то же время отказывался тешить себя представлениями о честности и прозорливости французского правительства[40]. Он точно знал, что платить за амбиции государства придется самым бесправным – рабочим, крестьянам, мелким коммерсантам и служащим, – как произошло в 1914 году с его отцом. (Камю еще не понимал, что бесправные как во Франции, так и в остальном мире заплатили бы, если бы никто не выступил против нацистов с оружием в руках.) Цензоры, заботясь о боевом духе общества, неустанно резали разбухающие передовицы Alger républicain, Камю же, твердо намеренный перехитрить цензуру, для заполнения пустот перепечатывал фрагменты из классической литературы, например статью «Война» из «Философского словаря» Вольтера. Впрочем, даже эти отрывки не избегали цензорских ножниц.
В ноябре Камю писал в дневнике: «Поймите вот что: можно не видеть смысла только в жизни в целом, но не в тех формах, которые она принимает; мы можем отчаяться в существовании, поскольку не властны над ним, но не в истории, где отдельным личностям по силам все. Это личности убивают нас сегодня. Почему бы другим личностям не установить на Земле мир? Нужно только взяться, не замахиваясь на грандиозные цели»[41]. Это кредо, где не только обозначилось недовольство Камю пассивностью, которую предполагает экзистенциалистское мировоззрение, но и отразилась его строгая профессиональная этика, в то же время появилось на первой полосе газеты под заголовком «Наша позиция». Главный редактор Паскаль Пиа пытался объяснить читателям, почему все больше пустых квадратов белеет на страницах с каждым днем худеющего издания. Редакция, во-первых, осудила сам институт цензуры, отрицая «софизм о том, что ради поддержания боевого духа нации следует ограничить ее свободы». Во-вторых, она провозгласила «право отстаивать человеческие истины, которые вянут от страдания и тянутся к радости… Люди доброй воли не намерены отчаиваться, они хотят защищать те ценности, что удерживают нас от коллективного самоубийства»[42].
Эта передовица оказалась лебединой песней редакторов. Не пройдет и двух месяцев, как власти закроют газету и Камю останется без работы.
С помощью Пиа, располагавшего связями в Париже, довольно быстро, в марте 1940 года, Камю получил место в популярной ежедневной газете Paris-Soir, которая принадлежала крупному медиамагнату Жану Пруво. В сером и угрюмом Париже Камю тошнило от слащавости этого издания. Он писал, что Paris-Soir – «это труха из сантиментов, красивостей и развлекухи, набор липких крючков, за которые человек цепляется ради самозащиты в таком суровом городе». Куда лучше, как настаивал Камю, смотреть в лицо неприглядной действительности, а не малодушно прятаться от нее – действительности, в которую он ежедневно окунался в паршивом отеле, где снимал комнату. На его памяти одна постоялица выбросилась из окна третьего этажа. Ей было чуть за тридцать: «Этого довольно, и если она успела пожить, то можно и умереть… Кончилось все это шестисантиметровой вмятиной на лбу. Перед смертью она сказала: „Наконец-то!“»[43].
Да, наконец-то: сама Франция, вступившая в войну, но не воевавшая, в конце марта 1940-го готова была это сказать. Больше полугода страна находится в состоянии войны с Германией, но война идет странная – drôle de guerre, как ее называли, – две армии за это время вряд ли обменялись хоть парой выстрелов. Дети с ранцами на спине спешат в школу, рестораны и кафе полны народу, в театрах и кабаре аншлаг. Парижская опера готовит премьеру «Медеи» Дариюса Мийо, а парижане тем временем мурлычут популярную песенку On ira pendre notre linge sur la ligne Siegfried («На линии Зигфрида мы белье развесим»). Актер и шансонье Морис Шевалье записывает подряд два хита: сначала Paris Reste Paris («Париж остается Парижем»), затем Ca fait d'excellents français. Разумеется, эти прекрасные французы, которых воспевает Шевалье, – банкиры и булочники, коммунисты и консерваторы, селяне и парижане, объединившиеся, вроде бы, против Германии, – несколько месяцев назад хватали друг друга за глотки. Слушатели разделились во мнении, была ли привычная улыбка Мориса Шевалье искренней или циничной[44].
Тот же вопрос вызывали и газеты. Зимой и ранней весной 1940 года передовицы трубили о неколебимости французских политических лидеров, талантах военного командования и храбрости солдат, а все чаще мелькающие пустоты на страницах газет свидетельствовали о рвении цензоров, резавших любые материалы, которые не созвучны официальной риторике. Военные победы Германии, вроде оккупации Норвегии прошедшей зимой, преподносились как часть стратегического плана Франции, а бездействие на восточном фронте объяснялось наличием неприступной линии Мажино. Заголовки, спущенные из недавно образованного Министерства информации, – «Мы победим, потому что сильнее всех» и подобные – вуалировали пугающую неспособность командования к стратегическому мышлению и замалчивание настоящего положения дел[45].
И вдруг комическую абсурдность фальшивой войны отшвырнула в сторону абсурдность совершенно иного масштаба. В середине мая немецкие танковые корпуса ударили сразу в двух направлениях: первый, западный, прошил Нидерланды и Бельгию, второй вонзился в Арденны, лесной край севернее линии Мажино, которую французское командование упорно объявляло неприступной. Не более трех дней спустя немецкие танки въезжали в северофранцузский город Седан, вытолкнув на юг первую волну беженцев, которая превратилась в небывалое по масштабам массовое перемещение людей.
Так начался великий исход. Как замечал писатель-современник, «только библейские события могли бы сравниться с этим людским потопом, с этим бегством одной части страны в другую. Так началось возвращение в хаос, в прошлое, в историческую пустыню с рыщущими шакалами»[46]. В начале июня по дорогам Франции текли на юг шесть с лишним миллионов взрослых и детей из Бельгии, северных областей Франции и Парижа. Впрочем, слово «текли» не отвечает действительности; «вязли» более точно описывает, как плотные колонны беженцев с растущей примесью военных– машины, повозки, велосипеды – упорно ползли на юг. Те, у кого заканчивался бензин или спускались шины, бросали свой транспорт на обочине, присоединяясь к большинству, вынужденному спасаться пешком. Эти огромные и медлительные потоки людей несли урон не только от пикирующих «юнкерсов», но и от полного коллапса государственных механизмов. Строго говоря, когда правительство после многодневных колебаний 9 июня решило наконец эвакуировать Париж, оно уже, в общем и целом, утратило контроль над большей частью страны. Пока оно металось из Бордо в Клермон-Ферран, а потом в Виши, рвались линии коммуникации, и провинциальные чиновники оказывались в полном неведении и бессилии. Декорации повседневной жизни Французской республики неожиданно обрушились.
При этом в Paris-Soir административный механизм пока работал исправно. Пруво, явив куда большую предусмотрительность и распорядительность, чем верховное командование республики, еще несколько недель тому назад проехал по стране в поисках места, где газета продолжит работу, если Париж окажется под угрозой. Его привлек Клермон-Ферран в провинции Овернь в Центральной Франции. Город далеко от фронта, и к тому же там выходит газета Le Moniteur, чей редактор Пьер Лаваль согласился пустить Пруво в свою типографию. 11 июня Paris-Soir последний раз вышла в Париже. Остававшиеся в столице сотрудники, в том числе Камю, спешно упаковали чемоданы и присоединились к великому исходу.
В те дни парижанам уже слышались отзвуки канонады с севера, а с запада ветер приносил запах горящих бензохранилищ, но нигде не было видно никаких официальных лиц, организующих эвакуацию. Вакуум на месте государства быстро заполнялся слухами, растерянностью и страхом. Камю, которому было поручено перегнать в Клермон-Ферран одну из редакционных машин, отправился на юг, взяв пассажирами корректора и литературного редактора. На следующий вечер они вползли в Клермон-Ферран, с пустым топливным баком и струйкой дыма из-под капота. Камю, выбравшись из машины, первым делом распахнул багажник и облегченно вздохнул, убедившись, что портфель с рукописями на месте.
Абсурд, как замечал Камю, – «жизненный переход, отправная точка, экзистенциальный эквивалент философского сомнения Декарта»[47]. В романе «Посторонний», рукопись которого лежала среди других в портфеле, описывается именно такой опыт. Но Камю не последовал примеру Декарта, который боролся с демоном скептицизма, устроившись в доме с печкой посреди заваленной снегом Германии. Столкнуться с молчанием мира Мерсо, герою романа, пришлось на раскаленных солнцем улицах и пляжах Алжира.
Хотя многие читатели знают этот сюжет – в конце концов, «Посторонний» и сегодня, более чем через семьдесят лет после первой публикации в 1942 году, остается одной из самых продаваемых книг издательства «Галлимар» – роман по-прежнему застает нас врасплох[48]. Скупым языком Камю создает героя, чья жизнь не несет на себе ни малейшей тени рефлексии. Любовник, не умеющий любить, сын, не способный плакать по умершей матери, и убийца, не имевший никаких причин убивать, Мерсо живет без раздумий о прошлом и будущем, скользя сквозь бесконечную череду настоящих моментов. В выходные Мерсо ездил в богадельню, где умерла его мать, а потом занимался сексом с женщиной, которую встретил на пляже. В полдень он садится на стул у себя на балконе, выходящем на главную улицу предместья, и до вечера курит и глазеет на небо и прохожих. Меняющиеся картины не вызывают в нем ни воспоминаний, ни надежд, они едва ли выходят за рамки схематичного описания. С наступлением темноты и прохлады Мерсо затворяет окно и перебирается в комнату: «Увидел в зеркале угол стола, а на нем спиртовку и куски хлеба. Ну вот, подумал я, воскресенье я скоротал, маму уже похоронили, завтра я опять пойду на работу, и, в общем, ничего не изменилось»[49].
В жизни, столь тесно привязанной к настоящему, что не остается места ни для того, что предшествовало, ни для того, что последует, перемен не происходит – или, если сказать точнее, мы замечаем перемены лишь через рефлексию. И только в изменениях мы видим себя самих – свое отражение. Мерсо, бросая взгляд в зеркало, не видит там себя – закономерно, поскольку еще нет личности, которую можно было бы разглядеть. Это парадокс, воплощенный героем «Постороннего»: для Мерсо единственная имеющая смысл жизнь – это жизнь в настоящий момент, проживаемый в телесных ощущениях. Однако, равнодушный к прошлому и будущему, он не способен постигнуть их смыслы. На вопрос Мари – девушки, с которой он занимался сексом, – любит ли он ее, Мерсо отвечает: «Слова значения не имеют, но, кажется, любви… у меня нет»[50]. Если на то пошло, то и смерть араба не имела значения. Спуская курок посреди затопленного солнцем дня, Мерсо знает только одно: «[Разрушилась] необычайная тишина песчаного берега, где только что мне было так хорошо»[51].
Разумеется, лишь рефлексирующий субъект может заявить, что когда-то ему было хорошо. Арест Мерсо и суд (роковые события, запускающие в нем рефлексию) напоминают описание l'homme sauvage Руссо – дикаря, заброшенного судьбой в развитое общество. Родившийся в Женеве франкофон Руссо, как и Камю, никогда не чувствовал Францию своим домом и всю жизнь разрывался между тягой к одиночеству и солидарностью с людьми. Руссо утверждал, что человек в первобытном состоянии – счастливейший из всех уже потому, что он глупейший из всех. «Его душа, которую ничто не волнует, предается только лишь ощущению его существования в данный момент, не имея никакого представления о будущем, как бы оно ни было близко, и его планы, ограниченные, как и кругозор его, едва простираются до конца текущего дня»[52].
Тюрьма у Руссо представляет собой символ общества, которое сковывает нашу природу и душит потребности, но для Мерсо это только камень и железо. И лишь запертым в тюремной камере он принимается складывать события своей жизни в связную историю, где ему досталась главная роль. И лишь тогда вспоминает, что есть «час, в который когда-то давно… бывало спокойно на душе», бежит от того, в чем прежде бессознательно, но охотно пребывал, то есть от бесконечного настоящего, и объявляет: «„Вчера“ и „завтра“ – только эти слова имели для меня смысл»[53]. Прошлая его жизнь была не более абсурдна, чем у дикаря Руссо. Абсурд возникает в нашей жизни, лишь когда за нами с лязгом захлопывается тюремная дверь – или когда с высоты общественных норм мы судим, насколько низко пали.
За несколько недель до великого исхода Камю, работавший в Париже над рукописью, которая превратится в «Миф о Сизифе», в письме Франсине делился сомнениями относительно своих попыток свести разрозненные заметки в эссе: «Страшно подумать, сколько тут нужно внимания и усилий. Я тону в этих заметках и перспективах». Сами заметки отходили на второй план, тогда как перспективы, до ослепительного сияния отполированные событиями, выдвигались на первый. Хотя в «Мифе о Сизифе» едва ли найдешь прямые исторические или политические отсылки, это эссе – отклик на разразившийся в Европе катаклизм. В итоге сочинение, задуманное автором как личная интеллектуальная и эмоциональная хроника, поднимается до поиска смысла в мире, ценности и ожидания которого рухнули, превратившись в прах.
Захолустный Клермон-Ферран неожиданно оказался удачным местом для работы над «Мифом о Сизифе». В письме другу Камю замечает: «Этот город – идеальная декорация для „Тошноты“»[54]. Но писателя одолевала теперь еще и тошнота иного рода – вызванная не турбулентностью жизни, а действиями правительства, прибывшего под предводительством восьмидесятилетнего маршала Филипа Петена следом за Paris-Soir в Клермон-Ферран. В письмах Франсине Камю изливает наболевшее: «Трусость и малодушие – все, что они могут предложить. Прогерманская политика, конституция по модели тоталитарных режимов, безудержный страх революции, которой никогда не будет: и все это, чтобы угодить врагу, который уже расколошматил нас, и сохранить привилегии, которым ничто не угрожает»[55]. Оглядываясь вокруг, на политиков и их приспешников, Камю чувствовал удушье. Вскоре новый режим раскрыл свою антисемитскую сущность, и из газеты уволили всех евреев. Потрясенный Камю писал Франсине, что любая работа в Алжире, даже крестьянская, будет лучше, чем служба в Paris-Soir. Совершенно естественно Алжир теперь казался ему убежищем – единственным местом, где можно оставаться свободным, одновременно оставаясь французом.
Но пока Камю не спешил покинуть Клермон-Ферран. Он ушел с головой в писательский труд и дал новое имя тексту, который до тех пор именовал «трактатом об абсурде». Камю назвал свое эссе «Миф о Сизифе», хотя этот античный сюжет возникает лишь на последних страницах.
Абсурд – дитя несовпадения. Он возникает, когда реальность не оправдывает наших ожиданий. От простейших до самых сложных случаев, как пишет Камю, «абсурдность тем больше, чем сильнее разрыв между терминами сравнения». В пример он приводит «абсурдные браки, абсурдный вызов, абсурдное молчание, абсурдные обиды, войны и даже перемирия»[56].
Ближайшие друзья Камю, читая эти строки, могли бы вспомнить его мучительный брак с Симоной Ийе, источенные туберкулезом легкие, классовые конфликты в Алжире, которые он описывал как репортер, черствость матери, о которой он заботился всю жизнь – или то, как мальчиком он на каникулах помогал в хозяйственном магазине, где долгие дни был занят работой, которая «возникала из пустоты и в пустоту уходила», и «ждал, сидя на стуле, когда ему дадут повод для бессмысленной суеты». Это было своего рода упражнение в сизифовом абсурде. Таким же упражнением можно назвать и его детские попытки переводить для неграмотной бабушки титры к немым фильмам: быстро, чтобы она успевала следить за действием, но тихо, чтобы не мешать другим зрителям[57].
Те, кто не знал Камю, но знал войны и перемирия, тоже видели царство абсурда. Хотя в дневниках писателя лишь одна запись посвящена великому исходу, всё эссе проникнуто опытом французов 1940 года. Камю считал это обстоятельство достаточно важным, чтобы сделать на нем акцент при публикации «Мифа о Сизифе» в Америке в 1955 году. В предисловии он просит читателей о снисхождении и понимании, напоминая, что книга «написана пятнадцать лет назад, в 1940 году, в дни великих бедствий, постигших Францию и Европу»[58].
Поражение Франции знаменовало собой болезненный разрыв между народом и государством. Французские экономические и военные ресурсы не так уж заметно уступали немецким; по некоторым параметрам Франция даже превосходила врага. Несоответствие ее мощи, выраженной в качестве и количестве ресурсов, и столь стремительного разгрома, побудило историка Марка Блока – солдата и участника Сопротивления – окрестить это событие «странным поражением». Блок погиб в нацистских застенках в 1944 году, но случись ему пережить войну, он бы, вероятно, согласился, что это поражение было столь же странным, сколь и абсурдным.
Какое более резкое несоответствие можно было помыслить в дни исхода для миллионов беженцев, которые за несколько дней до того, как попали в водоворот на месте ушедшей ко дну Французской республики, все еще глупо верили как в незыблемость ее гражданских, правовых и политических институтов, так и в продолжение своей налаженной жизни? «Утреннее вставание, трамвай, четыре часа в конторе или на заводе, еда, трамвай, четыре часа работы, еда, сон, и так все, в том же ритме, в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, субботу»[59]. Это все то, чем наши жизни были «до»: отсутствие пауз, бесшовная ткань дней – ровно до того момента, когда швы внезапно разошлись.
Моментом разрыва может обернуться такое тривиальное событие, как подслушанный разговор или мелькнувшая сцена, или настолько неординарное, как пикирующий на тебя «юнкерс». В этот миг нас вырывают из привычной обыденности шепот или взрыв, требующие ответа на вопрос «Зачем?» с равной и неожиданной настойчивостью. Устало и не без удивления мы устремляем взгляд в поисках ответа в пустоту небес или на кабину самолета с незнакомцем внутри, который твердо намерен нас уничтожить, и на наших глазах маскировка осыпается, «мир вновь становится самим собой»[60]. Как бы мы ни старались вернуться к тому, что знали прежде, несуразность человеческого существования восстановлена. Наша реакция на все эти события напоминает поведение переведенного в Клермон-Ферран из Парижа банковского клерка, которого описывает в записных книжках Камю: «[Он] пытается сохранить верность старым привычкам. Это ему почти удается. Но есть неуловимая разница»[61].
Снявшись с якоря, как и множество других организаций, в сентябре Paris-Soir вновь переезжает: из Клермон-Феррана в Лион. Служащих поселяют в отеле, стены которого украшены картинами в жанре ню, напоминающими о том, что в этом здании, расположенном в самом центре квартала красных фонарей, прежде размещался бордель. Это было вполне уместно, поскольку газета к этому времени без капли стыда взялась прославлять авторитарный режим Виши, верноподданнически перепевая реакционные, патерналистские и ксенофобские заявления, которыми сыпал маршал Петен. Тексты его выступлений подкреплялись фотоснимками, на которых шеренги стариков и мальчишек – почти все мужчины другого возраста оставались в немецких лагерях военнопленных – вскидывают руки над головами в беретах, салютуя новому лидеру нации. В день приезда Петена в Лион на главной городской площади собрались ветераны Первой мировой. Глядя на эту толпу, один из горожан буркнул, что сцена напоминает ему «оживший оссуарий»[62].
Общественный климат портился, и в Камю росли недовольство и сомнение по поводу Paris-Soir. В начале октября газета опубликовала первый набор антисемитских законов режима Виши. Камю в письме еврейской приятельнице Ирен Джиё выплескивает свое негодование: «Этот ветер не продержится долго, если все мы – и каждый из нас – твердо признаем, что это плохо пахнет»[63]. Камю обещает всегда стоять за Ирен – не самая распространенная позиция для француза в 1940 году, когда абсолютное большинство граждан либо приветствовало новые законы, либо смирялось с ними. В записных книжках Камю перечисляет несколько исторических параллелей: Святой Фома признавал за народом право на восстание, а в Сиене в эпоху Возрождения кондотьер, спасший город, потребовал для себя абсолютной власти и был за это убит горожанами[64].
Франсина приехала в начале декабря: они с Камю теперь могли вступить в брак, поскольку развод с Ийе наконец зарегистрировали. 3 декабря после гражданской церемонии новобрачные в компании с Пиа и наборщиками из газеты отметили событие в ближайшем баре. Камю в те дни, когда в Paris-Soir ложь заняла место фактов, находил утешение в наборном цеху: наборщики, по крайней мере, могли с полным правом получать удовольствие от своего непростого труда. До конца месяца Камю, если не отбывал ночную вахту в редакции, работал с Франсиной в неотапливаемом номере над «Мифом о Сизифе». Ему не удалось раздобыть пишущую машинку и приходилось писать застывшими стертыми пальцами, а Франсина перебеляла текст в перчатках. В этой голой ледяной комнате, напоминающей «уродливый, но потрясающий мир», где «даже кроты осмеливаются надеяться», Камю погружался в свою рукопись и в мир, о котором рассказывал, чтобы если и не обрести надежду, то хотя бы не впасть в отчаяние[65].
Мы знаем, чем заканчивается история Сизифа: она бесконечна. Это завершение без завершения, измеренное расстоянием между вершиной горы и последним отрезком склона, который нужно преодолеть камню. Куда меньше известно при этом, с чего миф о Сизифе начинается. А у него, по сути, несколько вариантов завязки. Камю упоминает разные версии, не задерживаясь ни на одной.
Сизиф, сын бога ветров Эола, был хитрецом. Он то и дело оставлял в дураках как смертных, так и богов. Пожалуй, особенно зло он пошутил над Аидом, который по воле Зевса явился к Сизифу с оковами, чтобы увести в царство теней. Сизиф, попросив показать, как надеваются оковы, сам заковал Аида в цепи. Абсурд плененного бога осложнялся еще более абсурдным следствием: пока Аид пребывал hors de combat[66], никто не мог умереть. И это предельно досадное недоразумение разрешилось лишь после того, как бог войны Арес, вызволив Аида из оков, схватил Сизифа и отправил навстречу его судьбе.
Сизиф не сдался и тогда. Пока Арес готовился унести его дух, хитрец шепнул жене Меропе, чтобы та не погребала его тело. Прибыв к Персефоне, пройдоха сообщил властительнице загробного мира, что его пребывание там – чистое недоразумение: вроде бы умер, но тело не похоронено. Сизиф заключил, что, строго говоря, место ему на другом берегу Стикса. И пока как всегда суровая Персефона пыталась понять, как с ним быть, хитрец добавил: если бы только его отпустили обратно на три дня, он бы все уладил и тут же вернулся в Аид. Сбитая с толку богиня дала такое позволение, и Сизиф возвратился на белый свет; нечего и говорить, что обещания он не сдержал. Олимпийский жандарм Гермес отыскал беглеца, схватил его и приволок – вторично – в Аид, где в наказание за каверзы Сизифа обременили огромным валуном, который ему придется вечно, раз за разом вкатывать на вершину горы[67].
Кто лучше годится в абсурдные герои? «Презрение к богам, ненависть к смерти, жажда жизни стоили ему несказанных мук, когда человеческое существо заставляют заниматься делом, которому нет конца»[68]. Притом Камю не упоминает Сизифовых уловок и каверз, плутней и хитростей – всего того, что было так важно для античных греков. Напротив, он утверждает, что Гомер называл Сизифа «мудрейшим и осторожнейшим из смертных»[69].
На деле Гомер такого не говорил. В «Илиаде» он характеризует Сизифа как изворотливейшего среди мужей. Благоразумием он не отличался, а мудрость пришла к нему слишком поздно. Не останавливается Камю и на той версии мифа, в которой Сизиф – соблазнитель или даже насильник Антиклеи, жены Лаэрта и матери величайшего из всех хитрецов, Одиссея. Может быть, Камю не знал об этих вариантах сюжета или, если и знал, то побоялся, как бы они не бросили тень на героический образ Сизифа. Или, пожалуй, Камю поступил, как поступил бы любой древнегреческий историк, драматург или философ: создал героя в духе своего, а не былого времени.



