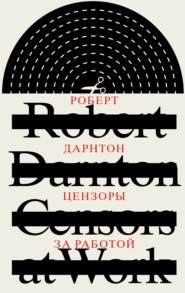
Полная версия:
Цензоры за работой. Как государство формирует литературу
Можно было бы подумать, что это история Англии, написанная для англичан из самой бешеной фракции вигов… Ярость, с которой автор критикует священников и монахов, доходит до такой степени, что можно подумать, будто читаешь Вольтера. Автор часто прибегает к его тону и выражениям. Также в начале книги автор заявляет, что английский народ вправе выбирать себе короля, исходя из своих нужд, и, пользуясь этим утверждением, показывает, что Яков II был законно лишен престола. …Хотя я вычеркнул наиболее вызывающие абзацы… текст все еще пропитан английским духом, что делает невозможным получение автором привилегии на книгу. И все же, если г-н Мальзерб решит дать ему молчаливое дозволение и автор представит книгу как изданную в Лондоне, читатели легко поверят ему и никогда не подумают, что книга написана французским монахом-бенедиктинцем109.
Последней категорией, подлежавшей надзору, по мнению Мальзерба и других лиц, писавших о книготорговле, была литература, наносящая урон принятым моральным устоям, – сейчас это обычно называют порнографией. В XVIII веке этого термина не существовало, но эротическая литература процветала, не привлекая особого внимания, если действующими лицами не становились монахи, монахини или официальные фаворитки. Такие книги были достаточно скандальными, чтобы хорошо продаваться из-под полы, но никогда не попадали в руки цензоров. Лишь несколько непристойных романов было отправлено на рассмотрение, и к ним, как правило, относились терпимо110. Единственным примером необычайно похабной книги, который я встретил в записях цензоров, стала «Тайны брака, или Кресло красного бархата», Mystères de l’hymen, ou la bergère de velours cramoisy, которую цензор отверг как отвратительный плод помрачения ума111.
После изучения сотен докладов цензоров сталкиваешься с непредвиденной проблемой: если цензоры в первую очередь думали не о вынюхивании безбожия и вольнодумства, за исключением особых случаев вроде янсенизма или международных отношений, в чем они видели опасность? Не там, где мы бы ожидали, не среди философов-просветителей. Нет, их больше беспокоил двор. Точнее, они опасались вторгаться в переплетение протекций и обязательств, посредством которых распределялась влиятельность при Старом режиме. Хотя к 1750 году книжный рынок процветал и новые силы изменяли облик торговли, королевские цензоры все еще принадлежали к миру, созданному государями эпохи Возрождения, где неверный шаг мог привести к катастрофе и судьба зависела от воли власть имущих (les grands).
Опасность, таким образом, исходила не от идей, а от людей – всех, обладавших влиянием, кого могло задеть неуважительное или неосторожное замечание. Один из цензоров вычеркнул из исторической книги упоминание о преступлении представителя могущественной династии де Ноай, совершенном в XVI веке, и не потому, что оно не было совершено, а потому, что «дом [де Ноай] может быть недоволен тем, что об этом вспоминают»112. Другой цензор отверг точнейший труд по генеалогии на том основании, что он может содержать упущения, оскорбительные для некоторых влиятельных семей113. Третий отказался одобрить описание отношений Франции с Оттоманской Портой, потому что в нем содержались «подробности, затрагивающие семьи, требующие уважения», и даже назвал имена: один аристократ сошел с ума, служа послом в Константинополе, а другой не смог получить должность посла из‐за враждебности двора к его сумасбродной теще114. Повсеместно цензоры содрогались при мысли пропустить завуалированное упоминание кого-то, обличенного властью. Потребовалось специальное расследование в Лионе, чтобы выпустить книгу, которая могла оскорбить местных нотаблей115. Мальзерб, который и сам принадлежал к влиятельному роду, постоянно отправлял рукописи на проверку высокопоставленным особам, которые могли понять отсылки, недоступные цензорам более скромного происхождения. Вельможи ожидали такого рода услуг. Герцог Орлеана, например, поблагодарил Мальзерба через посредника за то, что тот следит, чтобы «никакая информация о его отце не была опубликована до того, как об этом сообщат ему [нынешнему герцогу]»116.
Жанром, вызывавшим у цензоров наибольший ужас, был «роман с ключом». Его легко было не опознать, не обладая достаточным знанием света. Неискушенный аббат Жируа, к примеру, попросил Мальзерба назначить другого цензора для романа, который не просто высмеивал писателей (что было приемлемо), но мог метить по более значимым мишеням. «Я боюсь намеков. Они встречаются часто, и я не решаюсь взять на себя ответственность за них. Если бы я мог их понять, то, возможно, не волновался бы так, но я не могу сказать, кто имеется в виду»117. Та же опасность мерещилась другому несведущему цензору, который отказался одобрить рукопись, хотя нашел ее безупречной во всем, кроме одного: «Это может быть аллегория, скрытая с изяществом и тонкостью под священными именами, которой при дворе найдут злонамеренное приложение (applications malignes). Поэтому я нахожу работу опасной для публикации в этом королевстве, даже с молчаливого одобрения»118. Мальзерб с пониманием относился к опасениям людей, работавших под его началом. Они, в конце концов, не принадлежали к высокопоставленным особам (des gens assez considérables) и не могли уловить аллюзии, очевидные для любого человека из великосветских кругов. Более того, они были боязливы. Цензоры скорее отказали бы рукописи, чем рискнули обратить на себя неудовольствие, одобрив ее119. Отказ часто показывал страх перед «приложениями», applications – этот термин нередко появляется в бумагах цензоров, а также полиции120. Под ним подразумевались зашифрованные в книгах, песнях, эпиграммах и остротах намеки, обычно оскорбления или компрометирующая информация. Applications оставались незамеченными обычными читателями, но могли причинить большой ущерб представителям высшего общества. Такие «приложения» представляли собой форму влияния, которую нужно было держать под контролем в обществе, где репутация и «лицо» (bella figura) означали политическое могущество и были источником уязвимости, как три сотни лет назад при итальянских дворах.
Скандал и Просвещение
Если в бумагах цензоров можно услышать эхо Возрождения, заметны ли в них признаки грядущей революции? Ответ будет отрицательным: пристальное изучение цензуры с 1750 по 1763 год избавляет от ощущения, что все, происходившее в последние годы Старого режима, вело к взрыву 1789 года. Оставив в стороне телеологию, приходится признать, что в литературном мире действовало достаточно сил, подрывающих устои. Одной из них было Просвещение. И хотя его приверженцы посылали самые скандальные книги печататься за пределами Франции, иногда они пытались издать их внутри королевства, отправляя цензорам, и в редких случаях цензоры одобряли их. Это могло послужить причиной скандала. Не только у самого цензора начинались проблемы, но, что более важно, государственный аппарат подвергался угрозе со стороны сторонних сил, стремившихся завладеть идеологическим контролем. Речь идет о последующей, послепечатной цензуре. Книги могли вызвать негодование многих инстанций – Парижского университета (особенно факультета теологии в Сорбонне), парламентов (независимых судов, которые могли вмешиваться в дела при беспорядках в городе), Генеральной ассамблеи церкви Франции (она часто запрещала книги во время своих собраний раз в пять лет) и, из числа других духовных авторитетов, в первую очередь французских епископов и Ватикана. Все эти силы претендовали на право осуществлять цензуру, и администрация успешно отбивалась от их посягательств, желая сохранить за собой монополию на власть в мире печати.
Эта монополия была сравнительно новым явлением. В Средние века корона предоставляла право надзора за книготорговлей Парижскому университету, который в первую очередь был озабочен точностью копий, предоставляемых скрипториями. После подъема Реформации Сорбонна продолжала контролировать выход книг, но она не справлялась с потоком протестантских сочинений. Корона попыталась решить проблему в 1535 году, постановив, что, если кто бы то ни было напечатает что бы то ни было такое, его повесят. Это не помогло. За следующие 150 лет государство наращивало собственный репрессивный аппарат, уменьшая полномочия церкви. Муленский эдикт (1566) требовал, чтобы все книги перед изданием снабжались королевской привилегией, а «кодекс Мишо» (1629) устанавливал механизм цензуры через королевских цензоров под властью Канцелярии. К концу XVII века государство укрепило свою власть над издательским делом, и университет перестал играть здесь какую-либо существенную роль, но епископы и парламенты продолжали запрещать книги после их выхода, издавая mandements и arrêtés (епископские послания и парламентские эдикты). Конечно, у этих документов не было особенного эффекта, если только они не выходили в момент кризиса121.
Самые серьезные проблемы возникли в связи с изданием трактата «Об уме» Клода Адриана Гельвеция в 1758 году122. Ни одна книга не вызвала столько негодования со стороны претендентов на место цензоров: эдикт парижского парламента, резолюцию Генеральной ассамблеи церкви Франции, mandement архиепископа Парижского, похожие возмущенные письма других епископов, осуждение Сорбонны, бреве папы и предписание Королевского совета. В книге «Об уме», безусловно, содержалось достаточно вызывающего – материалистическая метафизика, утилитарная этика, неортодоксальная политическая теория – чтобы вызвать осуждение у любого приверженца традиционных воззрений. Но переполох с ее осуждением свидетельствует о большем, чем праведный гнев. Каждое высказывание против книги было посягательством на авторитет администрации и попыткой присвоить себе его часть. Конечно, скандальные работы выходили и до этого, но они распространялись по подпольным каналам книготорговли. «Об уме» продавалась открыто, с королевской привилегией и апробацией.
Ее цензором был Жан-Пьер Терсье, главный чиновник в Министерстве иностранных дел. Поглощенный дипломатической бурей, которую породила Семилетняя война, Терсье не мог уделить время абстрактной философии и едва ли был способен понять ее. Обычно он проверял книги, связанные с историей и международными отношениями. Чтобы окончательно его запутать, рукопись была предоставлена Терсье в нескольких пачках и не в порядке изложения, что сильно затрудняло возможность проследить за ходом мысли. И его уговаривала поторопиться госпожа Гельвеций, ослепительная красавица, пустившая в ход свои чары на званом обеде и умолявшая закончить до того, как они с мужем должны будут покинуть загородный дом. В конце концов Терсье дал книге полную апробацию, которая была напечатана вместе с королевской привилегией. Атеистический труд со знаками королевского одобрения! Скандал мог быть воспринят как нечто более серьезное, чем бюрократическая ошибка: он означал, что цензура слишком важна, чтобы доверять ее королевским цензорам и что следует предоставить сторонним силам некоторый контроль над тем, что попадает в Управление книготорговли.
Парижский парламент изо всех сил старался обратить ситуацию в свою пользу. Генеральный прокурор парламента требовал от Терсье отозвать апробацию, хотя это находилось в юрисдикции Мальзерба, действовавшего от лица канцлера и короля. Мальзерб ответил на эту угрозу, устроив аннулирование апробации через эдикт Королевского совета. Гельвеций был вынужден уйти в отставку с поста, который занимал при дворе, а Терсье, который, кроме всего прочего, поссорился с мадам де Помпадур, был уволен из Министерства иностранных дел. Но парламент снова нанес удар, вынудив Гельвеция отречься от книги в череде унизительных выступлений, и даже дошел до осуждения целого ряда просвещенческих работ; среди них были «Об уме: естественная религия, стихотворение» (De l’Esprit: La Religion naturelle, poème) Вольтера, «Философские размышления» (Pensées philosophiques) Дидро, «Философия здравого смысла» (La Philosophie du bon sens) Ж.-Б. Буайе, маркиза д’Аржана, «Пирронизм мудреца» (Pyrrhonisme du sage) Луи де Бозобра, «Полуфилософские письма шевалье де *** к графу ***» (Lettres semiphilosophiques du chevalier de *** au comte de ***) Ж.-Б. Паскаля, «Письмо к преподобному отцу Бертье о материализме» (Lettre au R.-P. Berthier sur le matérialisme) Ж.-Б. Куайе и первые семь томов «Энциклопедии». 10 февраля 1759 года все эти книги, за исключением «Энциклопедии», были разорваны и сожжены палачом у подножия главной лестницы парламента. Такое церемониальное аутодафе выглядело как объявление войны Просвещению.
Трудно представить себе более неподходящий момент. Слухи о заговорах и предательстве ходили по Парижу и Версалю с момента полубезумного и нерешительного покушения Робера-Франсуа Дамьена на Людовика XV 5 января 1757 года123. Дамьен, скорее всего, повредился умом на почве истерии вокруг янсенизма, которая вспыхнула посреди серьезного конфликта между парламентом и короной. В то же время экономика трещала под гнетом Семилетней войны, опустошившей казну и вынудившей короля ввести новые налоги. Сама война превратилась в череду катастроф, увенчавшихся 5 ноября 1757 года поражением при Росбахе, когда Фридрих II обратил в бегство объединенные армии Франции и Австрии. Не сумев сохранить хладнокровие перед лицом неудач, правительство запаниковало. 16 апреля 1757 года Королевский совет издал указ, грозивший смертной казнью любому, кто писал, печатал или продавал сочинения, которые хоть немного возбуждали брожение умов (émouvoir les esprits)124.
К этому времени шум, вызванный «Энциклопедией», предоставил противникам просветителей уязвимую мишень. Иезуиты, янсенисты и уйма других оппонентов изобличали нечестивость и ересь, содержащиеся в первых двух томах, так неистово, что Королевский совет осудил их в 1752 году, хотя и не запретил публикацию следующих томов. На практике запрет ни на что не повлиял, только увеличил продажи, резко взлетевшие до 4000 подписок. Это было целое состояние: 1 120 000 ливров с изначальной ценой подписки в 280 ливров (позже она возросла до 980 ливров, что сделало «Энциклопедию» одной из самых дорогих и, возможно, самой прибыльной книгой в истории Франции среди изданных до XIX века)125. Мальзерб был особенно внимателен к экономической стороне книжного дела126. Он поощрял использование молчаливого дозволения, чтобы не дать капиталу утечь за границы Франции к зарубежным издателям. Благодаря его протекции «Энциклопедия» продолжала непрерывно издаваться до седьмого тома, вышедшего в ноябре 1757 года. Через восемь месяцев после этого разразился скандал с «Об уме». Гельвеций не писал для «Энциклопедии», но в своих обвинениях в адрес Просвещения генеральный прокурор парламента связал между собой эти две книги как доказательство заговора против церкви и государства. Парламент, хотя и пощадил «Энциклопедию» во время сожжения книг 10 февраля 1757 года, придерживался той же линии, запретив любые продажи «Энциклопедии» и создав комиссию для ее изучения. Мальзерб успешно отразил эту атаку, но для этого ему пришлось взять разбирательство с книгой на себя. 8 марта эдиктом Королевского совета привилегия «Энциклопедии» была отозвана. Четыре месяца спустя государство обязало ее издателей выплатить неустойку в 72 ливра каждому подписчику, а Мальзерб отправил полицию обыскать штаб-квартиру Дидро, чтобы конфисковать все бумаги, связанные с этим гигантским проектом. Защищая свой авторитет, государство склонялось к жесткой последующей цензуре127.
Однако перед полицейским рейдом Мальзерб предупредил Дидро, чтобы тот отправил бумаги в безопасное место. Дидро ответил, что не знает, куда деть такое количество материалов в столь короткий срок. Мальзерб вошел в положение и спрятал большую часть их в собственном городском особняке. С точки зрения внешнего мира «Энциклопедии» пришел конец, но Дидро продолжал втайне составлять ее еще шесть лет вместе с основной группой единомышленников, которые не бросили его. Последние десять томов вышли разом в 1765 году с поддельным штампом Невшателя. К этому времени во Франции воцарился мир, споры о янсенизме улеглись, противостояние короны и парламентов стихло, хотя бы на короткое время, и работы просветителей продолжали выходить, пусть и без привилегии128.
Книжная полиция
Пережив двойной скандал с трактатом «Об уме» и «Энциклопедией», литература Просвещения смогла достичь читателя в самый опасный период своего существования при Старом режиме. Но этот эпизод, как бы важен он ни был, может показаться столь ярким, что затмит более широкую и долговременную перспективу деятельности цензуры. Из событий 1757–1759 годов не следует делать образчик типичной работы цензоров и не стоит, ссылаясь на них, представлять всю историю цензуры во Франции XVIII века как битву философов-просветителей и их противников. Более правильно было бы воспринимать работу Мальзерба и его подчиненных как часть того, что можно назвать литературной реальностью, то есть повседневным миром писателей, издателей, книготорговцев и влиятельных фигур при дворе и в столице. Этот мир, как видно из «Мемуаров о книготорговле», Mémoires sur la librairie, Мальзерба (1759), был довольно-таки подконтролен. Но, как и любой сановник Старого режима, Мальзерб имел смутное представление о том, что происходило за пределами Парижа и Версаля. Он даже не знал, в скольких городах есть инспектор по книжной торговле (только в двух, кроме Парижа, – в Лионе и Руане) и в скольких есть отделения гильдии, способные обеспечить выполнение королевских распоряжений (в двадцати семи городах были гильдии или профессиональные объединения, чьи члены имели особое право продавать книги, но только в пятнадцати из них были палаты синдиков, chambres syndicales, ответственные за проверку всех книжных поставок). Хотя Мальзерб знал, что в провинциях процветает нелегальная книготорговля, он и представления не имел о ее масштабе.
Преемник Мальзерба, Антуан де Сартин, бывший куда более способным администратором, попытался понять настоящее положение дел, набрав интендантов, чтобы надзирать за всеми книготорговцами в королевстве. В итоге колоссальная перепись, затронувшая 167 городов и законченная в 1764 году, выявила огромную индустрию, которая действовала, оставляя без особого внимания попытки государства ее контролировать. Эта информация послужила почвой для введения в 1777 году новых правил, призванных добиться хоть какого-то порядка, но они, как и все королевские эдикты, привели лишь к частичным результатам. Провинциальные торговцы книгами и в больших городах вроде Лиона, Руана и Марселя, и в маленьких, таких как Аванш, Бур-Сент-Андеоль, Шатоден-ан-Дюнуа, Форж-Лез-О, Ганж, Жуанвилль, Луден, Монтаржи, Негрепелис, Тарб, Валанс, вели дела вне поля зрения Парижа и по большей части вне рамок закона129. В 1770‐х более 3000 предпринимателей разного рода торговали книгами, но в полуофициальном «Альманахе книготорговли», Almanach de la librairie, 1781 года указаны только 1004. У большинства не было никакого права. (Чтобы легально продавать книги, нужно было быть членом гильдии или хотя бы купить сертификат, называемый brevet de libraire.) Основную часть их товара составляли книги, изданные за рубежом, купленные напрямую или через посредников, и многие из них были нелегально изданными или запрещенными. У нас недостаточно данных, чтобы определить пропорции, но, каким бы ни было статистическое соотношение законной и незаконной литературы, очевидно несовпадение между книгами, которыми занимались цензоры, и теми, что действительно распространялись по торговым каналам130.
Власти полностью осознавали это несовпадение, несмотря на их неполную осведомленность, потому что книги часто изымались на въезде в Париж и во время проверок поставок, проходящих через провинциальные палаты синдиков. Получив сигнал от информаторов, власти обыскивали книжные лавки, изымали нелегальные труды и допрашивали торговцев. Обысками руководили полицейские инспекторы, назначенные надзирать за книготорговлей. Самый активный из них, Жозеф д’Эмери, тесно сотрудничал с Мальзербом и Сартином и собрал невероятно богатый материал по всем областям издательской индустрии. Все ли эти действия можно отнести к формам последующей цензуры?131
Французы XVIII века сочли бы это обычной работой полиции. «Полиция» тогда была широким понятием, охватывающим большую часть задач муниципального управления, включая освещение, гигиену и поставку продуктов132. Парижская полиция была известна своей отточенной, современной и хорошо организованной работой. И в самом деле, полицейская администрация столицы была настолько усовершенствована, что вдохновляла на трактаты о полиции, и это можно считать вкладом в литературу Просвещения. Вольтер считал «общества, обеспеченные полицией», sociétés policées, социальным устройством, достигшим высшей степени развития цивилизации. Ошибочно было бы связывать полицию при монархии Бурбонов с репрессивными органами при тоталитарных режимах. Однако, несмотря на все свои совершенства, литературная полиция Франции XVIII века изъяла немало книг просветителей наряду с многими другими, так никогда и не вошедшими в историю литературы, но бывшими основной мишенью государственного преследования.
Чтобы полноценно осветить все аспекты полицейской работы такого рода, понадобилась бы целая книга. Но ее основы можно увидеть на примере изучения нескольких дел, которые показывают, как инспекторы книжной торговли (inspecteurs de la librairie) осуществляли свою работу. Во время обходов полицейские проверяли известные издательские дома и книжные лавки Латинского квартала, но куда чаще поиски незаконных книг приводили их на чердаки, в задние комнаты, подпольные магазины и на секретные склады, где производили и распространяли «дурные книги» (mauvais livres), как их называли инспекторы. Эти книги были настолько вредны в глазах властей, что не было нужды подвергать их цензуре. Их следовало найти и уничтожить или, в некоторых случаях, замуровать в Бастилии, ведь они существовали полностью вне закона.
Автор в комнатах прислуги
«Инспекция» литературы иногда приводила полицию к известным авторам, но большую часть времени они пытались выследить никому неведомых писак, создававших худшие из «дурных» книг. В одном случае речь идет о необычном авторе и работе полиции по искоренению подпольной книготорговли в особенно опасном месте – Версале133.
В августе 1745 года полицейские обнаружили, что из-под полы стала распространяться особенно возмутительная книга, о любовной жизни короля, слегка замаскированная под сказку под названием «Танастес», Tanastès. Они поймали книгоношу, сообщившего, что берет товар на секретном складе в Версале, который держит книготорговец по имени Дюбюиссон. Дюбюиссона немедленно схватили и увезли в Бастилию на допрос. Он признался, что получил рукопись от некоего Мазлена, лакея гувернантки дофина. Мазлен получил ее от автора, Мари-Мадлен Бонафон, горничной принцессы де Монтобан, которая рассталась с ней в обмен на 200 копий книги, издание которой Дюбюиссон организовал в Руане в магазине вдовы Ферран.
Один отряд полиции выехал в Версаль за Мазленом и мадемуазель Бонафон, другой – в магазин Ферран в Руане. Тем временем инспекторы на улицах продолжали отлавливать книгонош. В итоге они притащили в Бастилию двадцать одного говорливого заключенного, допрос которых позволяет многое понять о подпольной печати. Самое откровенное признание было получено от автора, мадемуазель Бонафон. 29 августа после двух ночей, проведенных в одиночестве в камере, ее привели к Клоду-Анри Фейдо де Марвилю, генерал-лейтенанту полиции.
Генерал-лейтенант считался одним из самых высокопоставленных чиновников Франции, занимая примерно то же положение, что и современный министр внутренних дел. Он не допрашивал заключенных в Бастилии лично, за исключением важных государственных дел. В этом случае Марвиль, очевидно, почуял неладное, потому что горничные не пишут политических романов, да и вообще обычно не пишут. Поэтому он тщательно подготовился к допросу и проводил его на манер игры в кошки-мышки. Марвиль расставлял ловушки, мадемуазель Бонафон пыталась их обойти, а запись разговора запечатлела все их ходы, так как велась в форме диалога: вопрос-ответ, вопрос-ответ, каждая страница подписана мадемуазель Бонафон, чтобы подтвердить, что все изложено точно134.
Марвиль быстро покончил с формальностями: мадемуазель Бонафон поклялась говорить только правду и назвалась уроженкой Версаля двадцати восьми лет, из которых последние пять она служила горничной у принцессы де Монтобан. Потом генерал-лейтенант сразу перешел к делу: писала ли она книги?
Да, сказала мадемуазель Бонафон, «Танастес» и начало еще одной, «Барон де ХХХ», Le Baron de xxx, а еще пьесу, которая никогда не ставилась и находилась у Мине-сына из Comédie française. (Позже она заявила, что закончила черновики двух других пьес, «Дары», Les Dons, и «Полуученый», Le Demi-Savant, и сочинила довольно много стихотворений.) Был задан вопрос, что привило ей вкус к творчеству? Не советовалась ли она с кем-нибудь, сведущим в композиции, чтобы научится излагать мысли в тех книгах, что она хотела написать? Она ответила, что не советовалась ни с кем, и что, поскольку она много читала, это поспособствовало ее желанию писать самой. Более того, ей казалось, что таким образом она сможет заработать немного денег. Никто не учил ее театральным порядкам, но она поняла их сама из пьес. Несколько раз по поводу пьесы «Судьба», Le Destin, она действительно советовалась с Мине, но над другими упомянутыми произведениями работала сама. Она никому не рассказывала о «Танастесе», кроме господина Мазлена, которого попросила найти кого-либо, кто возьмется за издание книги.



