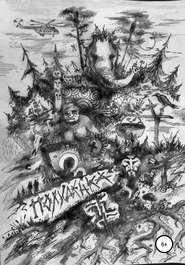 Полная версия
Полная версияПолудёнка
Да, вот теперь он с чистой совестью мог их так называть – врагов. Старые приятели, Колька с Лехой, были абсолютно безобидными существами, давно растерявшими на тернистом жизненном пути семьи, работу и интерес к цивилизованной жизни. Осенью и зимой они добывали соболей, всю весну безвылазно сидели в своем стареньком домике на окраине города, летом ловили «красную» рыбку. Конечно, они не были ангелами – понемногу браконьерствовали и помногу пили – но не заслуживали такой жуткой смерти…
В этот момент шедший чуть впереди Ульян предупреждающе резко поднял руку, потом несколько раз качнул ею вправо. Софронов про себя усмехнулся: интересно, а где это дедушка разучил жесты из арсенала армейских спецподразделений? Одновременно привычным плавным движением снял «Егеря» с предохранителя и плотно прижал резиновый затыльник к плечу.
Шаг. Еще один. Обзору мешает большая ветка – обойдем. Резкий разворот влево – нет, это просто неподалеку с дерева взлетела ронжа. Возвращаемся на прежний курс. Еще два шага. Теперь надо обойти густой куст шиповника… А почему она взлетела?! Ронжа, как и сорока – первый сторож, предупреждающий лесной народ об опасности!
Софронов стремительно развернулся и палец тут же практически сам собой надавил на спусковой крючок. Лишь потом он осознал, что уголком глаза зафиксировал серую скрюченную фигуру, метнувшуюся было в его сторону из-под соснового выворотня. После выстрела фигура дернулась и деревянно рухнула на землю. Через секунду сухо щелкнул СКС и что-то еще упало неподалеку.
Он судорожно, рывками ловил в прицел окружающие предметы, но в перекрестье возникали лишь стволы деревьев, пни и коряги. За спиной послышался негромкий голос Ульяна:
– Все, Софрон, опусти ствол. Опусти, их было всего лишь двое. Все кончилось.
Кончилось… Софронов нехотя опустил карабин, автоматически щелкнул предохранителем. Потом на негнущихся ногах подошел к лежащему на спине телу и сделал над собой усилие, чтобы посмотреть в лицо первого собственноручно убитого человека. Впрочем, человеком это существо было лишь несколько десятилетий, а то и веков назад.
Сейчас оно больше всего напоминало слегка сдувшуюся, а потому чрезвычайно морщинистую куклу с землистого цвета лицом и белыми аквамариновыми белками без признаков зрачков. Вздернутые в оскале сухие губы обнажали желтые и крепкие, почти лошадиные зубы, которыми так удобно рвать живую плоть. Огромные отвислые уши касались плеч существа, одетого в грязную куртку из мягкой оленьей кожи и такие же штаны. В костлявой и когтистой руке оно до сих пор крепко сжимало тяжелую узловатую дубинку из ствола лиственницы.
Дед Ульян опустился на корточки перед трупом и принялся внимательно разглядывать траву рядом. Не оборачиваясь, поманил рукой напарника:
– Нужно еще кое-что сделать. Смотри внимательно вокруг, где-то рядышком должен быть большой жук. Его обязательно надо найти.
И действительно, примерно в метре обнаружился огромный жук-плавунец, блестящий, как будто только что тщательно обработанный лаком. Он неторопливо полз к сдувшейся морщинистой кукле. Софронов молча показал на него Ульяну, и в ту же секунду панцирь плавунца мерзко хрупнул под прикладом СКСа. Дед брезгливо вытер оружие полой мертвецовой куртки, а потом пояснил:
– Жил грешно и помер смешно… Вот теперь с этими двумя – действительно все. Горячее железо и частица мамонта вышибают из сиртя его душу – жука-си. Вне хозяйского тела ее может уничтожить даже клюв воробья. Если же этого не сделать, то через несколько минут жук вновь заберется внутрь тела и оживит сиртя. Ну, теперь ты проникся особенностями национального экзорцизма? Молодец! Все, двинули дальше.
Глава тринадцатая
Пока спутники шагали по топкой мари, Софронов размышлял о бренности бытия, а еще – о случайностях, которые порой в одно мгновение переиначивают жизнь человека. Примеры таких случайностей он легко мог отыскать и в собственном прошлом.
Так, например, после окончания школы захотелось ему поскорее вкусить взрослой жизни. Поэтому устроился он грузчиком на одну из торговых баз, работал сменами, сутки через двое, а все свободное время проводил на рыбалке вместе с соседом дядей Федей. Обычно они с вечера выезжали на сор, выбирали подходящее место на затопленных иртышскими водами заливных лугах, ставили сети-ряжевки. Потом привязывали лодку к какому-нибудь торчащему из воды кусту, дядя Федя торопливо заливал в себя пару бутылок «плодово-выгодного» вина и тут же засыпал, распугивая комаров богатырским храпом. А Софронов подолгу лежал на сланях старенькой «казанки», слушая мир и полной грудью вдыхая окружавшее его непомерное юношеское счастье.
Лишь однажды в начале июля по какой-то необъяснимой причине он решил сделать себе полноценный выходной и остался дома, отказавшись ехать с дядей Федей. И надо же было такому случиться, что именно в тот вечер в дверь позвонили, и унылый долговязый лейтенант вручил парню повестку, хотя весенний призыв на тот момент уже закончился. Оказывается, у местного военкома случился какой-то недобор и он забрил в ряды родной Российской армии десяток первых попавшихся под горячую руку сибирских пацанов.
Если бы Софронов в тот вечер как всегда уплыл ставить сети, то самолет с призывниками улетел бы без него. И еще неизвестно, как бы тогда повернулась его жизнь. Может быть, в ней не нашлось бы места последующим событиям и явлениям – пересвисту рябчиков, истерикам Льва Васильевича Вальцмана, вечному запаху жареной картошки в подъезде родного дома, отражению звезд на бархатном покрывале ночной Оби. Было бы что-то совсем другое…
От размышлений о превратностях жизни Софронова оторвал шум крыльев сорвавшегося с верхушки тетерева – за два последних дня они забрались в такую глушь, где дичь попадалась чуть ли не на каждом шагу. Теперь они двигались краем обширного болота, манившего россыпями огромной мясистой клюквы, и как раз сейчас переходили небольшой возвышенный участок леса, мыском вдававшийся в бескрайнее царство мхов и багульника.
Внезапно Ульян остановился и принялся внимательно осматривать чащу, потом повернулся к спутникам.
– Не пойму… Давайте-ка глянем, что там такое. Времени у нас немного, но не годится оставлять за спиной всякие странные непонятности. Не бойся той собаки, которая лает, а бойся той, которая исподтишка кусает…
Они продрались сквозь поросль молодых кедрушек, смахнули с лиц липкую паутину и остановились. Софронов недоуменно поинтересовался:
– Это чо за фигня?
Действительно, представшее их взору сооружение выглядело для тайги весьма странно. В небольшой ложбинке когда-то давныым-давно была выстроена непомерно длинная избушка, напоминающая скорее не то барак, не то склад. Несомненно, что ее хозяева больше всего заботились не об удобстве жильцов, а о скрытности – они настолько ловко вписали здание в естественную складку местности, что со стороны оно было совершенно незаметно. И лишь громадный кедр, рухнувший во время бури и обваливший край ложбины, выдавал тайну ухоронки.
Не по-таежному широкая дверь из тяжелых лиственничных плах разбухла, поросла мхом и никак не хотела открываться. Совместными усилиями мужчины кое-как сумели сдвинуть ее на полметра и протиснулись внутрь. Узкие снопы света от фонариков выхватили из темноты ряды неказистых самодельных ящиков, сложенных один на другой и некогда укрытых чем-то вроде брезента. Софронов прошел по узкому проходу, смахивая густой налет пыли на дощатых стенках и читая небрежно намалеванные мелом надписи: «Земцов», «Кузнецовы», «Шеймин», «Куклины», «Новицкий». А потом звонко хлопнул себя ладонью по лбу:
– Блин! Ну, конечно! Это же тот самый знаменитый клад, который местные купцы спрятали от комиссаров!
И просительно обратился к деду:
– Ульян, давай хоть посмотрим, что там?
Тот испытующе взглянул на Софронова, улыбнулся:
– Запомни, Софрон, не все переловишь, что по реке плывет. Хотя ладно, дам тебе полчасика на разграбление города. Действуй, лорд Карнарвон!
Впрочем, несмотря на сквозившую в голосе снисходительность, и Ульяна разбирало любопытство. А иначе чем объяснить тот факт, что он тоже принялся ловко поддевать топором крышки? Доски мгновение сопротивлялись, потом ржавые гвозди лопались, и взору кладоискателей представало содержимое ящиков, некогда заботливо упакованное в стружку и ветошь.
А посмотреть здесь было на что. В сухом, проветриваемом воздухе склада отлично сохранились потемневшие от времени серебряные блюда и вазочки, сметанно-белые фарфоровые тарелки и даже покрытые патиной ажурные каминные часы. В одном месте они наткнулись на великолепную офицерскую шашку с георгиевским темляком, в другом – на горсть крестов и медалей, в третьем – на попорченные древоточцами толстенные старинные книги, в четвертом – на серебряную церковную утварь.
В темно-зеленом фабричном ящике без меловой надписи обнаружились обильно смазанные винтовки-трехлинейки, несколько наганов и маузер в потертой деревянной кобуре. Увидев его, Софронов вцепился в это чудо немецкой военной мысли и ни за что не хотел с ним расставаться. Лишь после прямой угрозы деда оставить его здесь вместе со всем арсеналом он с видимым сожалением вернул «ствол» на место. Зато, улучив момент, незаметно положил в карман небольшой, но увесистый сверточек в промасленной бумаге, справедливо решив, что в ящике с оружием вряд ли кто будет хранить запчасти для швейной машинки.
Они уже собирались уходить, когда заметили объемистый предмет, упрятанный под самой крышей. Софронов с немалым трудом опустил его на ближайший ящик и принялся извлекать из оболочки. Он убрал один слой пергаментной бумаги, второй, третий, снял льняное полотно, уже догадываясь, что увидит. Наконец, были сброшены все покровы, и их взорам открылась большая икона. О том, что она является старинной, свидетельствовали и выгнутые доски, и рассохшиеся пазы, и веками въевшаяся копоть, и темный лак, из-под которого с трудом проступал лик Богородицы с воздетыми вверх руками.
Как только луч фонаря осветил ее образ, Ульян внезапно оттолкнул Софронова и схватил икону в руки. Софронов потер ушибленную об угол ящика руку и обиженно поинтересовался:
– Ты чего, дед, сбрендил? Попросил бы, я отодвинулся…
Не оборачиваясь, старик тихо проговорил:
– Ты хоть понимаешь, Кто у меня в руках?
– Не «кто», а «что». В школе надо было учиться, а не по лесам с ружжом бегать…
Но Ульян, казалось, даже не обратил внимания на колкость:
– Это Она, несомненно. Все сходится. Прав был ротмистр, Она не к атаману Семенову ушла, Она здесь осталась…
И пояснил сотоварищу:
– Это же чудотворная икона Абалакской Божьей матери! Считалось, что ее увезли с собой отступавшие на восток колчаковцы. И лишь несчастный ротмистр Анненков утверждал, что Она не захотела покидать Сибири. Это ведь и вправду она – Заступница… Знал бы ты, сколько времени искали ее люди, и сколько из них навсегда сгинуло в урманах…
Он еще несколько минут благоговейно держал ее в руках, а потом принялся бережно упаковывать обратно, слой за слоем. Помогая ему, Софронов осторожно поинтересовался:
– Не думал, что язычник, тем более шаман, будет столь почтителен по отношению к христианской реликвии. С чего это вдруг?
Ульян отрешенно улыбнулся:
– Дурак ты. Это же – святыня. Хоть для кого – язычника, православного, мусульманина, буддиста. Настоящие святыни для всех религий едины. И она должна, просто обязана вернуться домой, в Абалак. Запомни, Софрон, если жив останешься – вернись за Ней и отнеси в монастырь. И тогда уже можешь быть уверен, что прожил жизнь не зря…
Они вернули икону на место, с трудом прикрыли дверь и отправились дальше.
Глава четырнадцатая
Их путь пролегал древним кедровым бором по краю увала. Величественные темнохвойные великаны смыкались кронами где-то высоко-высоко над головой, отчего возникало ощущение, что идешь под куполом огромного храма. На сырой глинистой почве то и дело встречались признаки присутствия многочисленных медведей – отпечатки когтистых лап и багровые от непереваренной брусники кучки. Ульян совершенно не обращал на них внимания, а потому и Софронов мысленно махнул рукой – по сравнению с ожившими вурдалаками-сиртя мишки выглядели попросту безобидно.
Мысли его поневоле вертелись вокруг найденной ухоронки. Оно и понятно: кто из нормальных (то бишь обладающих некоторой фантазией) людей не мечтал отыскать в пыльном подземельном углу ларец с яхонтами, «меч-кладенец» или на худой конец – оригинал «Слова о полку Игореве»? Конечно, наиболее серьезные клады лежат в Центральной России, где богатые люди тысячелетиями укрывали в земле ценные вещи – от внешних врагов и внутренней смуты, татей и властей. Но и Сибирь-матушка хранит в урманах немало увлекательных исторических загадок. Достаточно вспомнить «золото Колчака» – бесследно исчезнувшую часть золотого запаса Российской Империи.
По одной из версий, часть его (в том числе драгоценную раку из-под мощей Иоанна Тобольского, а также уникальные ордена Белого движения) колчаковцы везли по Оби и Иртышу, да не рассчитали – угодили в ледостав. Неподъемный груз хотели отправить дальше гужевым транспортом, но из-за распутицы не успели и спрятали от греха где-то в наших местах. Позднее баснословную потерю пытались искать белые и красные, любопытные и историки (в погонах и без таковых) – все усилия оказалось тщетным. Тайга не любит раскрывать свои дремучие тайны кому попало. Впрочем, не так: она вообще не любит их раскрывать.
Взять, скажем, Обской (Мансуров) городок – первое русское поселение за Уралом. Вроде бы прекрасно известна и его история, и даже месторасположение – у слияния Оби и Иртыша. А вот поди ж ты – археологи до сих пор не могут определить, в каком же точно месте почти десять лет жили стрельцы с казачками, и где должна была произойти так и не случившая эпическая битва между ними и остяко-вогульским ополчением.
Кстати, еще неизвестно, как бы повернулась русская история Сибири, если бы метко пущенное стрелецкое ядро не размолотило в щепки языческого идола, перед которым настраивались на бой аборигены. Тогда они испугались «гнева богов» и все войско разбежалось по урманам. А что бы случилось, если автохтоны вырезали бы весь русский гарнизон и убоявшийся напрасных потерь Федор Иоаннович (а вернее, Борис Годунов) отказался от дальнейших планов по колонизации Евразии? Поэтому вполне возможно, что этот ничем не примечательный участок обского берега значит для России не меньше, чем Херсонес, Куликово поле, Фили или Сталинград. Только нет на нем своей «Родины-матери»…
Встречаются в истории Сибири и другие увлекательные материальные загадки. Скажем, «панцирь Ермака», а вернее, два таковых, подаренных казаку самим Иваном Грозным: «…а Ермаку сверх того было дано два стальных панцыря, битые в пять колец с государственными гербами». Один из них сегодня находится в московском музее, а вот судьба другого запутана и легендарна. Летописи утверждают, что вскоре после гибели тело атамана было найдено татарами, которые похоронили его с большими почестями, а панцирь как реликвию и оберег передавали самым уважаемым из своих мурз. А потом… потеряли. Где он находится сегодня – неизвестно.
Но, конечно, самая удивительная и знаменитая тайна Сибири – это «Золотая баба». О ней написаны сотни книг, сняты десятки кинофильмов, сложены тысячи легенд, но что она представляла из себя в действительности, доподлинно не сможет ответить никто. Судя по наиболее достоверным источникам, одно из последних мест, где ее хранили остяцкие шаманы – это Белогорье, «Белые горы», как называли в то время район Сибирских увалов совсем неподалеку от города.
– Все-то тебе узнать хочется, пытливый ты наш, – похоже, нахальная мамонтиха копалась в сознании Софронова столь же бесцеремонно, как хозяйка – в стопке белья.
Его это возмутило:
– Тебе знакомо такое понятие, как совесть?
– Конечно! Разумное существо, способное ощущать такое чувство, ни за что не будет воровать на предприятии, где работает, два калькулятора, восемь пачек бумаги, кофеварку и степлер. Или по крайней мере будет при этом испытывать стыд.
Тьфу ты! Вот и поговори с мохнатым вздорным животным!
Несколько минут шли в молчании, потом Ротару сжалилась над напарником. А может ей просто хотелось поговорить:
– Ладно, не обижайся. Записывай: «Золотая баба» действительно есть. И вопреки утверждениям некоторых глупцов, ее не утащили на плато Путорана и не бросили в Карское море. Стоит она себе преспокойно в тесном и пыльном лабазе, накрытая старым цветным платком…
Не оборачиваясь, Ульян произнес:
– На вашем месте я бы сменил тему. И постарался бы запомнить: не нами началось, не нами и кончится.
Ротару тут же замолчала, но подмигнула Софронову (что выглядело по меньшей мере странно) и мотнула головой на старика – понял, мол? Софронов в ответ понятливо закивал. Расспрошу деда при случае. Если, конечно, живы останемся…
Посреди пустой и прозрачной березовой рощи старик объявил привал. Софронов с наслаждением разулся, чтобы дать отдых натруженным ногам, и достал было из изрядно похудевшего за минувшие дни рюкзака пачку печенья. Но Ульян властно распорядился:
– Убери. Сегодня шамать я тебе не советую, зато рекомендую отведать моего отварчика. Очень уж он полезен для уставшего организма!
Он извлек из вещмешка фляжку, отвинтил колпачок и протянул ее Софронову. Заметив, что перед тем, как отпить из видавшей виды фляжки напарник обтер ее горлышко рукавом, улыбнулся:
– А вы эстет, батенька! Только тем море не погано, что псы воду лакали! Пей уже!
На вкус содержимое было похоже на… Да ни на что это не было похоже. В рот лилась тягучая терпкая жидкость, от которой огнем загорелись сначала рот, потом горло, желудок, и наконец всего Софронова засунули в стиральную машинку и включили режим отжима.
Непроизвольная судорога прошла по всему телу, сами собой начали сокращаться различные мышцы. Софронов с ужасом наблюдал, как его собственная левая нога согнулась в колене и попыталась поднять тело, тогда как пальцы правой вытанцовывали что-то веселенькое и задорное. Тщетно пытаясь унять одновременный нервный тик на лице и страстную зевоту, он произнес прыгающими непослушными губами:
– Чт-то с-со м-мной? У-у-а-а-у!
В голове мелькнула сумасшедшая мысль о том, что по законам Голливуда сейчас у него отовсюду должна полезть волчья шерсть, вырасти острые уши и увеличиться клыки…
– Ага. И не забудь про отрастающий хвост. Ничего такого подозрительного не чувствуешь в районе копчика?
Оказывается, клятая мамонтиха подошла вплотную и с циничным любопытством естествоиспытателя наблюдала за разворачивающейся перед ней увлекательной сценой из малобюджетного «хоррора». Третья часть «Сибирского оборотня», блин…
И тут внезапно все метаморфозы кончились. Тело вновь прекрасно подчинялось Софронову, в доказательство чему он осмысленно подвигал руками-ногами. А потом с обидой обратился к деду:
– Ты чего, Ульян, решил меня отравить?
Не обращая внимания на недовольный тон собеседника, шаман спросил:
– Белку на большой елке видишь? – и небрежно ткнул пальцем в нужном направлении.
Ближайшая старая ель росла метрах в ста, и в ее густых лапах можно было легко спрятать отару овец, не говоря уж о маленькой белочке. Софронов уже хотел было сообщить об этом старику, но поднял голову и тут же легко рассмотрел зверька, увлеченно грызущего шишку на ветке. Это было невероятно, но он прекрасно видел эту белку, как будто смотрел в бинокль или оптический прицел! Софронов перевел взгляд в сторону и тут же заметил шныряющего по сухостоине поползня и сидящую в траве у лужи ворону. Но ведь даже просто заметить их на таком расстоянии было немыслимо, а он мог рассмотреть каждое их перышко…
– Не бойся, Софрон, у старого козла крепки рога, – улыбнулся старик, глядя на ошарашенного спутника. – Мой отварчик всего лишь немного усилил остроту твоего зрения и чуточку обострил скорость реакции. Сколько это продлится – не могу сказать, действие эликсира сугубо индивидуально для каждого отдельно взятого организма. Может, на неделю хватит, может на год.
Несмотря на явную неуместность сравнения, Софронову вспомнился рассказ отца, некогда учившегося в провинциальном театральном училище. Многие тамошние студенты всеми силами старались поскорее стать богемой, которая в их представлении всегда и везде обуяна «одухотворяющими» пороками. То бишь ее представители должны непременно пить абсент, нюхать кокаин и колоть морфий. А так как в советской провинции абсент с кокаином встречались не чаще, чем птичка дронт, то и пороки получались какими-то «совковыми».
Однажды такая вот ушибленная интеллектом студентка вошла в комнату общежития и потребовала у одногруппников срочно найти ей «колеса», чтобы с их помощью тут же достичь Геликона и испить из Ипокрены. Вдохновенья, мол, ей не хватает для написания курсовой. И парни тут же выдали ей требуемую таблеточку, якобы вчера привезенную знакомым дипломатом прямиком из Амстердама.
Студентка таблеточку приняла, кефиром запила, потом упала на диван, закатила глаза и принялась вещать дурным голосом о дивных видениях, в которые она погрузилась благодаря импортному наркотику. Когда она заявила о том, что с настенного ковра только что взлетели тропические бабочки и теперь они все вместе танцуют в джунглях, парни попросту не смогли сдержать хохот и предъявили ей упаковку от цитрамона. После этого «одухотворенная» не разговаривала с ними два семестра…
Идти по лесу с новыми качествами Софронову было непривычно, будто к его глазам присобачили по микроскопу вместе с телескопом. Куда бы он ни поворачивал голову, взгляд тут же фокусировался на мелких деталях, делая мир невообразимо многообразным и выпуклым. Он и представить себе не мог, насколько в действительности ярко и красочно оперение простой ронжи, как математически совершенен механизм полета гусиной стаи в поднебесье, и какого цвета глаза у ондатры, сидящей метрах в двухстах от тропы.
Причем, это благоприобретенное зрение оказалось с секретом. Если Софронов делал над собой небольшое усилие, как при рассматривании стереокартинки, то взгляд каким-то образом «растворял» внешнюю оболочку предмета и позволял увидеть его «второй слой». Теперь Софронов на ходу развлекался тем, что изучал внутреннее устройство муравейника и «избавлял» от оперения сороку. Блин, а ведь с такими способностями и на девушек можно посмотреть свежим взглядом…
– Ага. Ты теперь легко сможешь полюбоваться натуральным видом персей главбухши Клавдии Петровны или узнать, каков цвет исподников у Льва Васильевича, – тут же сообщила Ротару. – Увы, обуреваемые тобой пошлые мысли лишний раз заставляют убедиться в том, что люди произошли от обезьян. Причем, относительно недавно.
Судя по танцующему кончику хвоста, доисторическая ехидна получала нешуточное удовольствие от того, что вгоняла Софронова в краску…
Глава пятнадцатая
Они быстро шли по хрусткому беломошнику среди величественных меднокожих сосен, не обращая внимания на изобилие брусники и грибов. Подобное Софронов встречал лишь в раннем детстве, когда пасмурным августовским днем они с отцом и соседом, фронтовиком дядей Толей, заблудились в дальнем урмане. Тогда они уехали на Обь, оставили шлюпку в устье небольшой тихой протоки и в поисках грибов углубились в девственную тайгу.
С панталыку их сбил… глухарь, сорвавшийся с места, но и не подумавший взлетать. Громадная древняя птица шустро помчалась по земле, ловко обходя деревья и проскакивая под валежником, а они, потеряв голову, кинулись ее ловить. Вскоре реликт исчез в густых зарослях можжевельника, оставив запыхавшуюся троицу в абсолютном неведении относительно направления, в котором следовало двигаться.
Лишь через несколько часов блужданий они вышли из душного сумрака векового бора к какой-то речушке и отправились вниз по течению. К счастью, это оказалась именно та протока, в устье которой была привязана их старенькая «Обь-эмка». Правда, шли они до нее не менее десяти-двенадцати километров вдоль прихотливо петлявшей протоки, берега которой были буквально усыпаны подосиновиками и белыми.
Тогда-то Софронов понял, что выражение «хоть косой коси» отнюдь не является образным. Огромные патриархи грибного мира вежливо склоняли перед ними свои «сомбреро», молоденькие ядреные – дерзко заступали дорогу, окружали и теснили к воде. Сначала Софроновы и дядя Толя наполнили ими корзины и пайвы, потом – снятые с себя плащи и «энцефалитки», а потом плюнули и побрели вперед, уже не обращая внимания на расстилавшийся перед ними чудесный «грибной тракт».
Обратно из мира воспоминаний его вернул голос Ульяна:
– Вот это и есть твое Ватерлоо, Софрон.
Они стояли на вершине пологого холма, поросшего редкими соснами. Откуда-то то и дело налетали порывы знобкого ветра, из-за которого по телу начинали пробегать колонны мурашек. Потом Софронов понял, что источником этого «ветра» является его спутник, от которого исходила непонятная, но ясно осязаемая энергия, заставлявшая вибрировать воздух вокруг.



