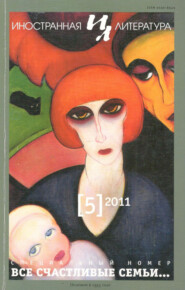
Полная версия:
Иностранная литература №05/2011
потому что в то время я делала ради мужа прическу, пишите о клумбах обложенных кирпичами которые муж втыкал в землю а я расколотила молотком в тот день когда он
нет не расколотила молотком, пишите что клумбы целехоньки, вьюнок жив
можете написать что у меня все хорошо, скажите Паулу что со мной все в порядке, что не сильно изменилась, что думаю о нем иногда, а скоро
разрешу ему приходить ко мне обещаю
<…>
поверьте мне и напишите или притворитесь что верите мне и напишите или вовсе не верьте мне но все равно напишите что мы гаснем как гаснет свет и только цыганские лошади по пути с пляжа и девчушка в десяти или двадцати метрах та что собиралась выйти замуж за доктора и никто так и не знает вышла она за него или нет не обращает внимания на Паулу, но и девчушка тоже гаснет и в зеркале наконец наступает тьма, в спальне тьма, в гостиной тьма и что-то чего почти не различишь но мне кажется что это медная рыбка которую я считала потерянной но сейчас когда ее невозможно потрогать я понимаю что никуда она отсюда не делась.
* * *Когда мы жили все вместе, меня укладывали на матрас, который хранился под кроватью, его разворачивали и объясняли мне
– Уже ночь Паулу
и я оставался один в темноте слыша как внизу шумит то, что мы называли морем, а это была всего лишь река, широкое устье реки, место где Тежу поравнявшись с мостом, устав спотыкаться о горы, плотины, замки, мельницы, печальные
как мне казалось
равнины, подходит наконец к океану и растворяется в нем со вздохом или с чем-то похожим на вздох, когда мы жили все вместе и я оставался один в темноте и видел калитку возникавшую в обрамлении забора, я думал всегда что слезы, ссоры и вопросы кончились, что мои родители
вы
тоже легли спать, в мире друг с другом и в гармонии как седые старики хотя тогда вам обоим не было и тридцати, а раз вы спокойны то и я спокоен, покачиваясь на матрасе уплываю в сон, соломинка или тряпка или кусок корзины который волны то подхватывают то бросают, оставляют на последнем пляже где трехколесный велосипед и машина с деревянными колесами наполовину увязли в песке, и тогда в тишине, на кухне под полосатым одеялом, я представлял себе
нет, не представлял себе а был уверен что у вас все хоршо, ничего что я не с вами ведь мы все
честное слово
одна семья, и никто
даже я
не просит
– Приглядите за мной
и потому я прощался с нами, и без зазрения совести шел по кронам деревьев в сторону дня, заканчивал все так как заканчиваю сейчас свою историю папа, и после этого никого из нас уже не было, как никто из нас никогда не приходил в мои сны, пляж да, машина с деревянными колесами пожалуйста, трехколесный велосипед ладно, этот ребенок на матрасе
что за ребенок?
имени которого мы уже не знаем и на которого не смотрим, осталось только сказать что сейчас февраль, пятница, двадцать третье февраля, что идет дождь, не припомню чтобы в это время когда-нибудь шел дождь, разве что раз или два, слезы на оконной раме и запах листвы ближе и ближе
я одновременно взрослый и маленький как странно, куда это я отправился искать ромашки скажите пожалуйста когда я никогда и не думаю о них, я их никогда больше не видел, с высоты моего тогдашнего роста они казались огромными
– Любишь ромашки Паулу?
осы на лепестках и папа
– Тут оса не шевелись осторожно
кирпичи под цементом в кирпичном заборе, между кирпичами-то осы и
сказать что февраль, пятница, двадцать
свили бумажные розы своих гнезд в лепестках которых прятались жужжа
третье февраля, что идет дождь, я не снял белье с веревок за окном, так что рубаха извиваясь пытается сорваться с прищепок, как если бы здесь был мой папа воротничок вправо-влево, подол болтается, рукава в бессмысленной пляске, открываю окно чтобы не дать ему рухнуть на землю а то народ столпился бы вокруг и глядел то вниз, то на мой пятый этаж
– Клоун
подумают еще что я его вытолкнул
мокрая ткань которую я прижимаю к груди и заметив что прижимаю ее к груди отшвыриваю ее разозлившись
– Ну что вы в меня вцепились папа
перестаньте тревожить меня, исчезните, однажды он позвонил в дверь на улице Анжуш, дона Элена встав на цыпочки глянула в глазок, посмотрела на меня, вытерла руки о юбку, крикнула
– Минутку
опять посмотрела на меня, поправила волосы, поправила плащ на вешалке
он не стал от этого висеть ровнее
огромные осы на тычинках, не просто черные а угольно-черные, их жужжание летом в ванне для стирки становилось все громче и громче, разуться и раздавить бумажные розы ботинком, кто-то потянул меня сзади
– Не шевелись осторожно
сначала темная лестничная клетка, окошко в крыше разумеется не служило окошком, все в голубином помете, листьях и грязи, дона Элена открыла дверь нервничая из-за вешалки на которой плащ
после того как позвонили
весь сморщился как будто шрамами покрылся и папа без парика, без платья, скромный, смущенная и испуганная осиная роза
– Если вы не против мне бы хотелось увидеть сына
я съежившись на диване про себя
– Не шевелись осторожно
моя история подходит к концу папа
вы похожи на других отцов когда не накрашены и без веера, если бы вас видела мама она бы гордилась вами, показывала бы вас подругам
– Это Карлуш
после того как папа ушел я видел как она на кухне рассматривала обручальное кольцо на ладони, когда заметила меня швырнула его в ящик со столовыми приборами и задвинула ящик бедром, на следующий день я не нашел кольца ни в ящике ни у нее на пальце, поискал среди вилок, среди чайных ложечек, под ножом для чистки рыбы, всегда розовым от крови, нашел старые монеты, сломанный перочинный ножик, но кольца не было и я заплакал
папа пришел забрать меня в Бику-да-Арейя чтобы мы жили там все вместе без ссор и вопросов, я ложился бы спать на матрасе и слышал как там внизу шумит то что мы называли морем а это была всего лишь река, широкое устье реки, место где Тежу поравнявшись с мостом, устав спотыкаться о горы, плотины, замки, мельницы, печальные
как мне казалось
равнины, подходит наконец к океану и растворяется в нем со вздохом или с чем-то похожим на вздох, с одним движением плечами, с полетом пенной шевелюры, я в темноте вижу калитку возникающую в оправе, блеск алюминия, ржавый угол, оконное стекло за которым темные стволы деревьев, помогите мне собрать вещи в мешок
дона Элена одолжит мне его
снимите мое пальто с вешалки я сам не дотянусь, вот это с бархатным воротником мне уже больше года не годится, другое, синее, почему мы теряем время, отчего дона Элена страдает за меня, почему папа, уверенный что я его не вижу, делает отчаянные знаки, что это за знаки, есть ведь автобус который идет прямо до дома, надо сесть в него на проспекте Алмиранте Рейша, прощайте дона Элена, переехать Тежу, проехать через Кошта-да-Капарика и сразу за ней бац, второй автобус почти всегда пустой, поворот налево у аптеки, проехать через кемпинг
ночью витрина аптеки освещена, не видно ни фасадов ни деревьев
мама ждет нас, мой матрас на кухне, брови соседки, тетки Далии
– Вернулся?
люди говорят только кусочком себя, остальное остается невовлеченным, когда мама злилась на папу только половина ее лица ссорилась с ним, руки продолжали варить рис а глаза следили за руками, время от времени глаза объединялись со ртом и тоже начинали сердиться, лопатки, до того отвлеченные чем-то, принимались гневно шевелиться, я понимал что учительница сердится потому что бедро у нее начинало подпрыгивать под юбкой, рассеянные пальцы сжимали мел, а туфлям до нас не было дела, мне казалось что дона Элена расстроена из-за меня и потому спрашивает папу правда ли он собирается на заработки в Испанию
– Я не могу поехать в Бику-да-Арейя Паулу
убежать на балкон, отказаться от еды, пролежать на спине с открытыми глазами до утра, дона Элена сопя в темноте
– Не переживай Паулу
желая утешить меня и не умея утешить, если бы она вдруг вздумала поправить мне простыни
– Идите успокаивайте свою дочь и отстаньте от меня
сеньор Коусейру, как я и говорил, одна только трость, не спать, собрать одежду
– Вы уезжаете работать в Испанию?
и бежать, сквозь жалюзи церковь не похожа на церковь, это что-то другое поджидающее меня, угрожающее мне
– Не спускайся по лестнице Паулу
сколько времени уже церкви со мной не разговаривали?
фонари все уменьшаются и становятся совсем маленькими, через несколько часов мусоровоз, если меня поймают на улице дядьки опрокидывающие в кузов мусорные контейнеры, они засунут мне в рот кляп и прощай, шаги сеньора Коусейру в коридоре а дона Элена подальше, углубилась в вязание потому что слоги подправили ей одну петлю
– Не трогай его сейчас
и фраза зависла на середине, потом дошла до конца, положив крючок и клубок на колени, фраза, освободившись от вязания
– Не трогай его сейчас
– Где Испания?
она не такая как дневная дона Элена, темнота меняет людей делает их значительнее, серьезнее, даже море к примеру, даже треск мебели в сосняке, десятки и десятки стульев, кушеток, столов, портрет Ноэмии
или папа
– Я не могу поехать в Бику-да-Арейя Паулу
вы же все понимаете правда дона Элена и дона Элена поправляет плащ на вешалке, на месяц в Мериду с театром, может быть накоплю немного, расплачусь за аренду квартиры, дам вам деньги на пропитание сына, дона Элена лжет, разглаживая плащ, мы ни в чем не нуждаемся сеньор Карлуш, они складывали деньги в жестяную коробку, записывали долги карандашом в столбик, сеньор Коусейру просил отсрочить плату за свет
– Что за новости?
они ставили свечку на блюдце и гостиную бросало в дрожь, мы делались то тощими то толстыми, утром на потолке кружок от копоти, сеньор Коусейру заворачивал какие-то металлические пластинки в газету и уносил их, через несколько часов выключатели начинали работать, папа тоже лжет
– Дам вам денег на пропитание сына
<…>
пятница двадцать третье февраля дождь, не припомню чтобы в это время шли дожди, помню маму с каким-то мужчиной, не хозяином кафе и не электриком
– Только не при ребенке
белые брюки запачканные маслом по шву
или смех
и звон ключей бродил по маминому телу, блузка, шея
– Он не понимает
мама массирует шею, проверяет в порядке ли блузка, вынимает бутылку из духовки, вытирает две рюмки и
– Кажется минуту назад было лето и вот уже опять
ставит их
лето
на скатерть, если бы я захотел намочил бы палец и попробовал, звон ключей пьет вино
– Ну что нам убить его бросить в реку?
белые штаны прижимаются к ногам моей мамы, мама опирается на кухонную раковину и часто дышит
– Погоди
ищет монетки в кошельке но нет ни одной монетки, старый автобусный билет, в раковине кастрюли, муравьи, мама оторвавшись от горлышка бутылки
– У тебя хоть есть монетка?
белые штаны с досадой шарят по карманам
– Если бы я знал о мальце не пришел бы <…>
дают маме денюжку а она передает ее мне
– На пропитание
поднимает меня с пола, сажает около корыта для стирки, дает мне горшочек и деревянную ложку
– Можешь стучать сколько хочешь
чтобы угодить ей попробовал стукнуть разок но больше не захотелось, хотелось писать, хотелось есть и я боялся цапель, моста менявшего цвет, зверя который вздыхал и ел сам себя на кухне, это была не мама и не белые штаны, это было нечто с двумя спинами, у которого не было ни одной груди, два затылка и ни одного лица, из которого высовывались и втягивались назад руки, зубы и ноги, электрик ходил вокруг подбирая то что выносили на берег волны, он оставлял нам красивые витые ракушки на заборе, жена хозяина кафе протирала столы и мне показалось что муж, уперев руки в боки, говорил плохие слова про маму или про меня
про маму
цыганки возвращались с ведрами с пляжа, в ведрах крабы, моллюски, если дельфин подплывал к пляжу они говорили с ним по-испански, белые штаны уехали и увезли зверя на мопеде трещавшем как зерна кукурузы на сковородке, мама легонько скребя ложкой по горшочку
– Монету
скребя сильнее ложкой по горшочку
– Давай монету Паулу
сердитая на меня
точно на меня
на меня
сердитая на меня
– Монету
монета у меня на ладони, мелкая на которую почти ничего не купишь, пять-шесть леденцов, одну жвачку, даже на дешевую шоколадку не хватит, мама мне не верит
– И это все что тебе дал этот козел?
осталось сказать что сейчас февраль, пятница двадцать третье февраля, что дождь, что через дыру в занавеске тесно прижавшиеся друг к другу, тусклые дома
уронила монетку в горшочек и вернулась на кухню, потом ложкой по горшочку, ложкой по горлышку бутылки, потом ложкой по горлышку бутылки и грохот, и еще раз грохот и бутылкой по духовке, сначала бутылкой а потом засовом, я хотел попросить
– Мама
но голос отказался звать ее, осколок бутылки поцарапал ей подбородок, мама показывая мне горшочек
– Одна монетка каналья
хватает меня за волосы и тащит к плите с облупившейся эмалью и погнутой ручкой
– Одна монетка за полчаса по-твоему я не стою больше одной монетки за полчаса Паулу?
сказать что в это время дождей обычно не бывало, разве что раз или два, темнеет в три часа дня и цыганские кони всхлипывают от страха, когда жена хозяина кафе собирает тарелки, на голове у нее мужнин берет, капли скачут по двору
слезы стекают по оконной раме
запах леса ближе, вьюнок растрепался
– Вьюнок папа
до переезда в Лиссабон он подпирал вьюнок колышками, подвязывал веревочками, делал навес из плаща, возвращался домой а мама
– Ну а я Карлуш?
и тоже в слезы
– Вы же не окошко так зачем же дождик?
а она не глядя на меня
– Ну а я Карлуш?
это не моя мама, я в первый раз ее вижу, кто вы такая, почему лежите лицом вниз на кровати без подушки и повторяете
– Ну а я Карлуш?
папина рука так и не дотянулась до нее, повисла над ней, передумала, папа это папа, а вот она не она
в конце концов он открыл дверь и вышел под дождь
монета
– По-твоему я стою не больше одной монетки за полчаса Паулу?
выпала из горшочка и покатилась по полу, не прямо а по шаткой вытянутой дуге, наткнулась на холодильник, затихла, Белоснежкин гном на меня сердит, мы оставались с ним вдвоем на целые вечера, кроме нас никого не было дома
– Приглядите тут друг за другом
если я брал ножницы гном тут же
– Смотри у меня
запрещал мне кромсать платья, пробовать лекарства, устраивать в ванне озеро
– Не вздумай
<…>
Белоснежкин гном приглядит за всеми
у него кирка и фонарь который никого не освещает, и только если я беру ножницы он пугается и умоляюще
– Осторожно
время не щадит его как не щадит и стены, мама уже не раз собиралась его выбросить
– Надо купить другую игрушку Паулу
поднимала крышку мусорного ведра, прошлое проносилось у нее в памяти, она передумывала, объясняла гному
– На этот раз тебе повезло
делала вид что собирается поцеловать его
– Ну а я Карлуш?
и тоже слезы
– Вы же не окошко так зачем дождик?
а она не слыша, крошечная в углу
– Ну а я Карлуш?
замечала меня, ставила его опять на холодильник
папина рука так и не дотянулась до нее, повисела над ней, передумала, и в конце концов он открыл дверь и вышел под дождь
<…>
папа
– Паулу
я хочу чтобы папа
– Паулу
чтобы сеньор Коусейру
– Паулу
чтобы дона Элена
– Паулу
я хочу чтобы мама белым штанам
– Погоди
чтобы посадила меня рядом с каменным корытом для стирки, дала мне горшочек и деревянную ложку, цыганки возвращались бы с ведрами с пляжа а в ведрах крабы, моллюски, если дельфин подплывал к пляжу они говорили бы с ним по-испански
<…>
звуки так близко
в темноте все рядом, люди, собаки, луна или часы на крыше вокзала, проскользнуть сквозь заросли, удержать равновесие, бежать, а может это и не голоса, дубы, тополя, обочина, что-то впивается в пятку, бежать, остановиться и никого, ложка о горшочек и монета
– Паулу
бежать, тишина в кладовке, тишина в доме, тишина на Принсипе-Реал, тишина на лестничной клетке но бежать
конец ссорам, вопросам, двадцать третье февраля пятница, не думать что промокну под дождем
бежать
дона Элена поправляет плащ на лестничной площадке на улице Анжуш, пытается помочь нам, зачем папа подает ей знаки думая что я не вижу, кемпинг, аптека, мама ждет нас, мой матрас на кухне, тетушка Далии
– Вернулся?
<…>
поравнявшись с мостом я добрался до океана и растворился в нем с чем-то похожим на вздох, я один в темноте в рамке забора вижу холодильник, плиту
– Жудит
ступени крыльца вырисовываются пядь за пядью, моя жена
– Ну а я Карлуш?
и хотя моя рука так и не решилась прикоснуться к ней
повисла над ней, передумала
я уверен что она меня узнала, заметила меня, отодвинулась в сторону, ведь в зеркале на шкафу нас двое, мой сын идет к нам, садится на пол с горшочком и деревянной ложкой, скребет легонько ложкой по горшочку а я должно быть уснул
не потерял сознание, уснул
я должно быть уснул потому что нет ни диадем, ни медальонов, ни пряжек, только десятки цапель на перекладине моста и Жудит протягивает мне монету в горсточке
<…>
Дагоберто Гилб
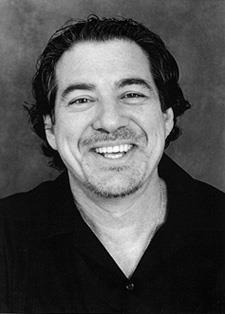
Дядя Рок
Рассказ
Перевод с английского А. Светлова
© Dagoberto Gilb, 2010
©А. Светлов. Перевод, 2011
По утрам в своей любимой закусочной Эрик заказывал свою любимую американскую еду – яичницу с колбасой и картофельные оладьи “напитое” с хрустящей поджаристой корочкой. Он сидел за столиком, завтракал со своей мамой, не обращал внимания на чужих людей, и жизнь казалась ему прекрасной – пока не появлялся мужчина и не начинал все портить. Чаще всего эти мужчины просто пялились на маму, а потом какой-нибудь подходил. Он по-дружески опускал свои огромные лапы на стол – осторожно, как будто боялся обжечься, – затем приседал на корточки, чтобы Эрику с мамой не приходилось поднимать голову, словно показывая, какой он учтивый, и улыбался всеми своими пожелтевшими от кофе и табака зубами. Это мог быть мужчина с галстуком-боло[1], медленно растягивающий слова. Или рабочий в желто-коричневой спецовке с логотипом компании на спине и овальной именной табличкой на груди. Иногда это был какой-нибудь служащий в форменной рубашке, белой или в полоску, с парой ручек, торчащих из левого нагрудного кармана, в джинсах или чинос[2], еще чистых с утра, и в стоптанных рабочих башмаках с необычно высокой шнуровкой. Он что-то говорил маме про ее сережки или браслет, про волосы или глаза, а если на ней была белая униформа – о том, как она ей здорово идет. Бывало, мужчина подходил и сразу начинал с этого – говорил маме о том, как она хороша, как он не мог удержаться, чтоб не подойти, и спрашивал напрямик, не могли бы они где-нибудь встретиться и пообщаться. Затем он подмигивал в сторону Эрика: “Славный мальчуган! Сколько ему – восемь или девять?” На вид Эрику было не меньше одиннадцати! После такого вопроса Эрик поджимал губы, отводил глаза от тарелки и, не поднимая головы, смотрел на маму, но не на мужчину, только не на этого чужого мужчину, до которого ему не было никакого дела. Он тыкал вилкой в жидкий американский яичный желток и размазывал его по американской картошке. Мама никогда не говорила мужчинам, сколько Эрику лет на самом деле, а отвечала, что он быстро растет или что-то вроде этого.
Когда подходил мужчина в костюме, она почти всегда давала ему номер телефона. Конечно, если это был не просто пиджак спортивного типа, а настоящий, застегнутый на все пуговицы костюм с накрахмаленной белоснежной сорочкой и галстуком с дорогой булавкой. Время от времени Эрик встречал кого-нибудь из этих мужчин у двери своей квартиры в Сильверлейке[3]. Мужчина по-приятельски подмигивал Эрику, брал его за плечо или за руку повыше локтя и щупал мышцы: “Кем ты хочешь быть, когда вырастешь? Полицейским, авиамехаником, агентом бюро путешествий, судебным обозревателем? А может быть, грумером?” Эрику приходилось стоять рядом с этим мужчиной и мамой, потому что она просила его вести себя вежливо. Потом мамин приятель обещал Эрику, что как-нибудь они возьмут его с собой и сходят куда-нибудь втроем: “Куда бы тебе хотелось пойти?” Эрик ничего не отвечал. Он вообще ничего не говорил, когда все эти мужчины были рядом с ним и его мамой, и вовсе не потому, что плохо знал английский, хотя мама всегда объясняла, что Эрик молчит из-за этого. Он не разговаривал ни с кем из этих мужчин, да и с мамой тоже много не говорил. Наконец мама с мужчиной уходили, и Эрик знал, что всю ночь будет один. Тогда он бежал в продуктовый магазин и покупал полгаллона шоколадного пломбира. Вернувшись, он закрывал дверь на все запоры, – на все, на какие только мог, – включал телевизор и ел свой нехитрый ужин столовой ложкой. Теперь Эрик был далеко ото всех этих мужчин. Хотя телевизор тоже достался им от мужчины. Он работал продавцом в магазине бытовой техники и как-то принес телевизор и похвастался, что ему его отдал один богатый покупатель, а раз так, то и он просто отдает его маме Эрика: “Ведь сама она не сможет купить себе такой классный телик!”
Когда мама работала официанткой в закусочной и собиралась замуж за хозяина, Эрик лакомился сливочным пломбиром, политым горячим карамельным сиропом, и пил шоколадные коктейли. Когда она работала в компании грузоперевозок, владелец всех грузовых машин говорил ей, что вот-вот разведется. Эрик поднимался в кабины огромных грузовиков и оказывался на огромной, как ему казалось, высоте, среди разных приборов со стрелками и непонятных рычагов. Потом мама стала работать в конторе какого-то инженера. Там не было ничего вкусного или интересного, но зато Эрик видел, что у этого инженера есть деньги. Эрику не разрешалось ничего брать, да и что ему там было брать – кучи бумаг со всякими чертежами? Однажды маму с Эриком пригласили к инженеру в гости. Дома у него были две лошади и конюшня, плавательный бассейн и два спортивных автомобиля с откидывающимся верхом! Была там и семья инженера: взрослые дети и седые родители. Все вместе они пошли ужинать в столовую, которая показалась Эрику больше, чем вся его квартира; на столе была скатерть, стояли три канделябра и лежали матерчатые салфетки. Мама отвела Эрика в сторонку и попросила хорошо себя вести за столом и быть со всеми вежливым. Эрик ничего не ответил. Все равно я никогда ничего не говорю – как же я могу сказать что-нибудь не то? – подумал он про себя. Потом мама нагнулась и сказала Эрику на ухо, что ей хочется показать им, как он умеет говорить по-английски. Весь ужин Эрик молчал, ел маленькими кусочками и жевал неторопливо: пусть не думают, будто мне нравится их ужин!
В такие дни мама часто бывала расстроенной и, придя домой, говорила Эрику о том, как ей хотелось бы все бросить и вернуться обратно домой. Говорила, что она устала от такой жизни. Это “обратно” Эрик представлял себе в основном по рассказам мамы, в которых он ни разу не услышал ничего хорошего. Ей приходилось жить вместе с братьями и сестрами в одной комнате. У них не было туалета в доме. У них не было электричества. Временами им не хватало еды. Такую Мексику Эрик часто видел по телевизору в вечерних фильмах, где дети бродят босиком по грязи или по разбитым тротуарам, а смешные маленькие мужчины носят широкополые соломенные шляпы и похожие на мешки белые рубахи и штаны. Женщины все время ходят в церковь и молятся святым, которые стоят в нишах, и, благоговейно склонив головы, перебирают бусины четок. Там – отмечал про себя Эрик – везде скалы, и скорпионы, и тарантулы, и гремучие змеи, и грифы, и никаких деревьев, и не хватает воды, и тощие собаки и ослы, и страшные злодеи с револьверами и ружьями, в непробиваемых пулями кожаных куртках, которые с дикими криками и громким хохотом въезжают в город, чтобы напиться и устроить пальбу из пистолетов и ружей – прямо как фейерверк на Четвертое июля! – и носятся на лошадях по всему городу, как гонщики на мотоциклах по песчаным дюнам. По-английски все они говорят с каким-то дурацким акцентом – у мамы совсем не такой акцент! Эрик даже не задавался вопросом, есть ли в Мексике хоть что-то хорошее, потому что все равно Мексика была далеко и он знал о ней только из рассказов мамы и фильмов. Он жил на асфальтированных и освещенных фонарями улицах, далеко от таких мест, где ездят на велосипеде, где аптека с восточными снадобьями, где армянская продуктовая лавка, где на одном и том же углу черные кубинцы пьют кофе и обсуждают игру “Доджеров”[4].

