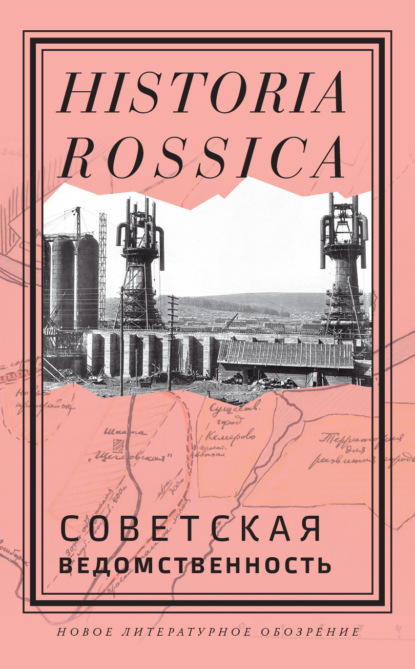
Полная версия:
Советская ведомственность
Государственные интересы определяли норму экономических интеракций, но вместе с тем они всегда оставались абстрактным образцом, который каждый руководитель воображал по-своему. Сложно было уловить это государство с его интересами в конкретных органах власти. Чем было государство – Советами, партией, наркоматами? Какая из этих структур формулировала и определяла государственные интересы? Где заканчивался интерес государства и начиналась заинтересованность ведомства? Вряд ли кто-то мог дать четкий ответ на эти вопросы. Ведомственной могла стать любая операция, будь то исходящая из кабинетов партии либо прописанная в циркулярах наркоматов. В период нэпа обвинение в отступлении от государственных позиций было излюбленным риторическим приемом в борьбе между экономическими субъектами. Вместе с тем в новой социалистической реальности этими субъектами с двух противоборствующих сторон выступали институты одного и того же государства. Раннесоветская эпоха – это время рационализации нового государства, в которой артикуляция «ведомственности» позволяла обозначить его границы.
В начале нэпа одним из наиболее ярких примеров такой рационализации был спор об интеграции управления снабжением и торговли солью после отмены на нее государственной монополии. Руководитель Государственного соляного синдиката, известный большевик М. И. Лацис предлагал передать отдел Солеторговли Наркомпрода в структуру своего объединения и создать «мощный торговый аппарат». Он считал, что тем самым «пострадает ведомственный интерес, но выиграет государство»275. Естественно, в этой связи не имело значения, что и Солесиндикат, и отдел Солеторговли являлись государственными структурами. В условиях отмены госмонополии и введения сбора соленого налога взамен нее централизация власти становилась принципиальным выбором между «ведомственностью» и «государственностью»: «Это еще было бы понятно, если бы это не были госучреждения и если бы государство не вынуждено было брать акциз с соли. Но сейчас это убийственно для государства. Ведомства стали бороться за первенство и в этой борьбе общегосударственные интересы забывают»276.
Ответ от представителей Наркомпрода не заставил себя долго ждать: «<…> тов. Лацис делает вид, что он открыл Америку, хотя сам целых полгода имел с ней теснейшие сношения и содействовал увеличению той самой антигосударственной ведомственности, в развитии которой он успел обвинить Компрод. Но мы не пугаемся страшных слов, посмотрим в „корень“ вещей и расшифруем, в чем же дело, где истинное проявление „ведомственности“»277. По мнению уполномоченного Соколова, комиссариат мог ликвидировать операции с солью тогда, когда «сочтет это наиболее соответствующим государственным (а не ведомственным) интересам». Он считал возможным объединить производство Солесиндиката и Солеторговлю только на базе Наркомпрода, поскольку комиссионеры от синдиката «Соль» были не кем иным, как «частными дельцами», отпускавшими товар «спекулянтам»278. По его мнению, когда соль «втридорога доставлялась частным перекупщиком» крестьянину, заканчивалась государственность и наступала ведомственность, но: «На языке тов. Лациса это и называется „государственная“ точка зрения»279.
Нэп порождал множество таких конфликтов, в которых действующие лица пытались дать определения истинных государственных интересов. Экономист В. Н. Сарабьянов, штатный работник «Правды», обвинял ВСНХ в «узковедомственной политике», в отсутствие «государственной точки зрения». Тот «в пучине нэповского хаоса» думал о «расширении своих функций», а не о контроле, планировании и регулировании в подчиненных трестах, защищал «шоколадное» производство, а не поддерживал тяжелую индустрию280. Ведомственная точка зрения могла присутствовать и в вопросах внешней торговли, хотя торгпреды СССР старались не ставить их выше «интересов русской промышленности»281. Многие тресты имели у себя «предрассудок», что «оздоровление бюджета и упрочение денежной реформы – сами по себе, а они тоже сами по себе». Они были не готовы платить штрафы, а только могли запрашивать дополнительное финансирование: «Нужно решительно изжить бюрократическую ведомственность, „точку зрения“ своей колокольни, нужно понять, что интересы государственной казны и интересы промышленности – это единое неразрывное целое»282.
На сессии ВЦИК при обсуждении проекта лесного кодекса, разработанного Наркомземом, большевик Ю. М. Ларин возмущался: «Основная черта этого проекта <…> это – избыток ведомственности. Когда ставится вопрос о том, как организовать лесное хозяйство, то интересы близорукой ведомственности оттесняют иногда на задний план те более общие интересы народного хозяйства, которые всегда должны служить руководящим маяком для всякого отдельного наркомата»283. Недовольство вызывало отсутствие комбинатов – крупных промышленных предприятий – в разных отраслях, таких как бумажное, спичечное и лесопильное производство, за исключением деревообрабатывающей промышленности. Ларин пояснял: «<О>сновная черта – это ведомственность, ведомственная постановка относительно промышленности, где плановая постановка хозяйства, где государственные предприятия смешиваются в одно целое с частными подрядчиками»284. Вдобавок Ларин считал, что уравнивание в проекте кооперации с «буржуазными скупщиками» также было проявлением ведомственности со стороны Наркомзема285. В этой логике государственный интерес представляла целостность, которая охватывала все отрасли, предприятия и даже кооперации разного уровня, а ведомственность, как и связь с частными предпринимателями, была угрозой государству.
Эти истории показывают, что оперирование категориями ведомственности становилось важным инструментом как в конфликте интересов, так и в гувернаментализации государства. Как никто не обладал исключительным правом говорить от лица государства, так никто не имел исключительного права обвинить кого-то в ведомственности и никто не был застрахован от таких нападок. Хотя попытки найти идеальную государственную структуру, которая бы работала и выражала исключительно государственные интересы и сохраняла целостность государства, предпринимались неоднократно. Таким особенным органом мог стать Госплан. Как говорил Л. Троцкий, Госплан был «учреждением, свободным от ведомственной заинтересованности и имеющим постоянную возможность сшибить ведомства в очной ставке»286. По мнению Троцкого, именно Госплан использовал единственно правильный хозяйственный язык – «язык цифр» экономистов, статистиков и техников. И вроде бы такому языку были чужды ведомственные распри.
Для современников вневедомственными центрами, которые также разрешали все конфликтные ситуации и выстраивали политику в угоду государственным интересам, могли стать Высший совет народного хозяйства, Совет народных комиссаров или Совет труда и обороны. Созданные как многоотраслевые органы управления, в самом начале они были на положении учреждений, способных победить ведомственную точку зрения. Большевик Я. А. Яковлев писал:
Недопустимая волокита, ведомственно-бюрократический подход, отсутствие гибкости, прямое нарушение ведомствами постановлений высших органов, ложные (не в смысле обмана, а в смысле незнания своего дела) ссылки на интересы экспорта и наряду с этим <…> политический ущерб для советской власти. И вместе с тем не найти виноватых, ибо у каждого ведомства найдутся десятки формальных отписок, ссылок, доводов, достаточных для формального оправдания, но недостаточных для партийного оправдания. Остается неясно, почему такие вопросы не могут быть решены прямым, твердым, окончательным постановлением Совета народных комиссаров или СТО, для которых не обязательно ведь всеобщее согласие всех ведомств, почему, наконец, в течение всей зимы СТО не был информирован соответствующими ведомствами?287
Большевик В. Д. Виленский-Сибиряков поддерживал слияние ВСНХ, Внешторга и Комвнуторга в единый Наркомат торговли и промышленности:
Дальнейшее раздельное существования трех наркоматов приведет <…> к тому, что может потеряться всякая возможность ответственного правления нашей государственной промышленностью и торговлей. «Управлять – это предвидеть». Эта истина высказана давно. Наши администраторы-хозяйственники только сейчас пришли к выводу, что при существующей ведомственности, дроблении функций и общей громоздкости нашего аппарата они не могут видеть всего того, что нужно для того, чтобы можно было с чистой совестью сказать, что они чем-то «управляют» и что-то «предвидят»288.
Здесь мы наблюдаем прямую отсылку к нововременному типу гувернаментальности. Виленский-Сибиряков использовал известное высказывание Екатерины II о том, что управление зависело от прогнозирования последствий принятых решений. Однако ведомственность мешала этой проницательности, нарушала естественные практики (у)правления. В приведенных цитатах проявлялось два типа рациональности в формирующейся Советской стране – административная и государственная. С одной стороны, большевики искали оптимальный формат для упорядочивания отношений власти в системе разрастающегося государственного аппарата и производственных структур, которые более правильно назвать администрированием. С другой – управлять и предвидеть значило следовать государственному интересу. Несоблюдение этого принципа нарекалось ведомственностью. Несмотря на то что каждый был готов пояснить, что такое ведомственность, постоянной оставалась содержательная интерпретация понятия – жертвование государством в угоду институциональным предпочтениям.
Чем же в таком случае было государство? Фуко говорил, что одной из редуцированных форм представления о государстве является сведение его функций к развитию производительных сил и воспроизводству производственных отношений289. Публичный дискурс в СССР не был исключением, и в репрезентациях социалистического строительства он описывал государство как совокупность всей советской промышленности. Гувернаментализация государства осуществлялась через принцип большевистского холизма: защищать государственные интересы, то есть бороться за государство как целостность и народное хозяйство как всецелое промышленное производство. Внимание только к своему ведомству подрывало этот принцип. В публичном дискурсе ни одно ведомство не отождествлялось с государством. Ведомства были лишь частью большого производственного организма, в котором взаимодействовали разнообразные руководители, плановики, инженеры, статистики, служащие и рабочие. Они должны были осознавать и показывать, что трудятся на хозяйство всей страны, а не только маленькой его части в виде своего предприятия или учреждения. Современники нарекали «ведомственностью» любое явление, в котором просматривалась хоть какая-то оппозиция этому большевистскому промышленному холизму.
Большевистский холизмГувернаментализирующее общество было разнообразным, и государственные интересы находили множество своих глашатаев. Но главным из них стал Ф. Э. Дзержинский, председатель Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ). Тема ведомственности, подрывающей государственную целостность, заняла центральное место в его выступлениях. В феврале 1924 года, уже в первый месяц своей работы в качестве председателя, он выступил на пленуме членов всероссийских съездов промышленности и торговли, где заявил:
<…> мы далеко еще не выполнили завета Ильича о смычке города с деревней. Одной из причин этого является то, что так называемые местничество и ведомственность проявлялись слишком резко и хозяйственники не старались найти пути для преодоления создавшихся жизнью противоречий между интересами отдельных трестов, между трестами и транспортом и т. д. В результате мы имели неслыханно тяжелые моменты для отдельных отраслей хозяйства, которые потом тяжело сказывались и на остальных отраслях. Такому положению должен быть положен конец290.
В этом выступлении он определил противостояние ведомств между собой в качестве основных факторов нарушения принципа большевистского холизма. Конфликты различных трестов подрывали народное хозяйство и государство как таковое. Это он особо отмечал, когда говорил о необходимости достижения «бездефицитности в народном и государственном хозяйстве»: «Это значит, что не надо доходы одной отрасли хозяйства рассматривать, как доходы только ее, а как общегосударственные. Нужно выработать особую психологию распределения всех тех средств, которые добываются всей нашей промышленностью»291. Эта «особая психология распределения» от одной отрасли к целостной и единой системе государственной промышленной экономики была для большевиков не просто мироощущением, но типом рациональности практик (у)правления в различных институтах нового государства. В июне 1924 года на заседании ЦК металлистов Дзержинский описал большевистский холизм на примере тяжелой индустрии:
Чтобы получить средства и обеспечить металлопромышленность заказами, надо прежде всего изжить ведомственные неурядицы, эти тенденции думать и болеть только своими ведомственными интересами. Надо заставить все ведомства понять, что они составляют часть целого, надо изжить это забвение взаимных связей и всем сообща, думая об интересах всей промышленности в целом, построить такой план, чтобы обеспечить металлопромышленности дальнейшее развитие292.
Для Дзержинского угрозу большевистскому холизму составляли не только борьба между трестами, но и конфликты промышленных предприятий с транспортными учреждениями: «Не надо забывать, что существует тесная зависимость всех отраслей нашего хозяйства. Громадную роль для всех отраслей хозяйства играет транспорт, и он должен быть втянут в нашу хозяйственную общественность. Соединение транспорта с промышленностью нужно поставить на первое место. Ведомственная политика, которая наблюдалась в деятельности наших хозяйственных органов, должна быть изжита»293. Он особенно акцентировал внимание на вагонном вопросе, который тесно связывал металлопромышленность и Наркомат путей сообщения. Именно по линии этих взаимоотношений «эта ведомственность дает о себе больно знать прежде всего». Суть проблемы заключалась в том, что интенсивная деятельность металлургов по производству паровозов и вагонов в итоге приводила к их избытку. Железнодорожники отказывались от новых заказов, что ставило заводы металлистов на грань закрытия294. Следуя принципу большевистского холизма, в котором тяжелая промышленность выступала мерилом государственных интересов, для решения ведомственной проблемы Дзержинский предлагал всем отраслям ориентироваться на металлистов: «Нужна взаимная спайка профессионалов и хозяйственников для проведения намеченной партией линии. Когда мы изживем ведомственность и все осознаем значение, которое имеет для всей страны металлопромышленность, и поставим ее во главу внимания всех ведомств, – успехи будут обеспечены»295.
Общим механизмом достижения поставленной цели становилась централизация. Так, Дзержинский настаивал на создании единого промышленного бюджета ВСНХ, который входил бы в общегосударственный бюджет. ВСНХ тогда смог бы направлять средства «туда, куда будут требовать общие интересы и состояние промышленности». В управлении металлопромышленностью он считал важным сохранить Главметалл: «Когда перед металлопромышленностью стоят такие большие и тяжелые задачи, их разрешить можно только в том случае, когда все будет сосредоточено в одном центре. Это не должен быть бюрократический главк. Сила его должна быть в учете опыта и связи с местами. Принцип централизации должен сочетаться с принципом децентрализации путем доверия местам, путем установления взаимного доверия между местами и центром»296.
То есть централизация сама по себе не была панацеей. Дзержинский прекрасно осознавал проблему «архицентрализованности» и «излишнего сверхцентрализма» бюрократического аппарата в СССР297. Он считал, что в целом советский аппарат не отвечал задачам индустриализации страны и страдал «большой ведомственной и междуведомственной путаницей, образующей весьма хитростные переплетения, перебок, параллелизмы в работе»298. Поэтому он призывал к совершенно иному ценностному и моральному порядку, основанному на реципрокном взаимодействии советских хозяйственных агентов и государства. Союзы профессионалов и хозяйственников, равновесие между центром и регионами должны были выстраиваться на взаимном доверии. По его мнению, проблема доверия между рабочими и руководителями предприятий нередко была подорвана. Как, например, на Донбассе, где «хозяйственникам верить на слово опасно: ведомственность еще очень сильна»299. Однако для Дзержинского восстанавливать доверие к хозяйственникам нужно было не только снизу, со стороны рабочих, но и сверху, между государством и его экономическими агентами. Он писал: «В основе такой системы хозяйственных взаимоотношений лежит пережиток прежнего недоверия к местам, к возможности подбора руководителей, которым можно было бы вручить дело без излишней опеки в мелочах»300.
Реформаторский запал Дзержинского требовал воспитания таких агентов, которые принадлежали разным ведомствам, но обладали общей солидарностью. Новая когорта этих хозяйственных агентов не могла себе позволить бояться нести ответственность за принимаемые решения: «Переход на систему ответственности и доверия вместо повседневного дергания и опеки тесно связан, конечно, с необходимостью особо тщательного подбора хоз. руководителей»301. Дзержинский считал необходимым отказаться от созыва комиссий, совещаний и заседаний для решения всяких вопросов, где «больше чем где-либо живая работа подменяется бюрократической волокитой» и «очень удобно уйти от прямой ответственности за принимаемое решение»302. Вместо них он призывал к тому, что можно назвать реципрокностью между агентами государства: быстрому и четкому разрешению вопросов, деловому согласованию между руководителями, вполне осуществимому посредством переговоров по телефону. Он ставил задачу «перехода на самостоятельное решение, на ответственность» каждому советскому руководителю303.
Таким образом, Дзержинский придерживался двух линий осмысления ведомственности – государственной и административной. Большевистский холизм как тип рациональности государства совмещался с рационализацией административного аппарата. Администратор и хозяйственник должны были следовать государственным интересам, учитывать нужды всей промышленности страны. Одновременно важным шагом в развитии народного хозяйства было восстановление реципрокного доверия между хозяйственниками и администраторами. Ведомственность нарушала эти базовые правила, и поэтому Дзержинский объявил ее главным врагом в строительстве социалистического государства.
Государство контроляИтак, уже в ранние годы советской власти происходила гувернаментализация государства – многие большевики выдвигали идеи пересборки практик (у)правления и выстраивания новой социальной коммуникации между различными экономическими субъектами. С другой стороны, появился и тип административной рациональности, в котором государственное управление обретало пороки «ведомственного самолюбия» и «ведомственной узколобости»304. Новые отношения власти были не способны организоваться сами по себе, не так просто построить в советской промышленности новую моральную экономику, в которой все друг другу доверяют и делегируют ответственность и функционал. Как указывал Дзержинский, нужно было сформировать «особую психологию распределения», а этого можно было достигнуть вполне механически. В итоге он стал одним из главных лоббистов кампании внедрения «режима экономии», при котором образовалась бы реципрокная связь хозяйственников и администраторов. Еще до Постановления ЦИК и СНК от 11 июня 1926 года, официально установившего этот режим в стране, Дзержинский говорил: «Режим экономии должен быть проведен во всех областях работы госпромышленности не только сверху, но и низовыми органами, как регулирующими органами, так и оперативными, трестами, синдикатами, фабриками и торговыми предприятиями. <…> Это вопрос не ведомственный, а общеполитический и общехозяйственный»305.
Согласно постановлению, основным направлением режима экономии стало «упрощение и рационализация структуры учреждений и предприятий, в частности упрощение взаимоотношений частей их между собой, сокращение числа инстанций при прохождении дел и устранение параллелизма в работе; упразднение всякого рода излишних учреждений, предприятий, отделов, комиссий, совещаний, филиалов, представительств, агентств и т. п.»306. Экономия включала в себя множество других более мелких решений – от отмены празднования юбилеев до установления времени рассмотрения вопросов. Несмотря на то что в постановлении ни разу не упоминались термины «ведомственность» и «бюрократизм», фактически это был закон против этих явлений в советском государственном аппарате.
Введение режима экономии в 1926 году являлось первой попыткой советской власти определить правила (у)правления в социалистическом государстве и административный контроль над чинами в самых различных учреждениях, которые что-то решают, делают, согласовывают и исполняют. Контроль объявлялся инструментом борьбы с ведомственностью как феноменом бюрократизма. Еще Л. Троцкий указывал на это:
<О>чень важным и наиболее неотложным средством является усиление и улучшение партийного контроля не только в партийной, но и в советской работе. Ведомственность, бюрократизм, рыночная перелицовка человеческих отношений – все это развивает очень большую силу втягивания, обволакивания, разложения. Наша партия знает это гораздо лучше, чем ее критики со стороны. Но она не пасует перед этими тенденциями, а сознательно, планомерно, бдительно и непримиримо противодействует им. И не только своей общей работой, но и через специальные органы контроля, приноровленные к конкретным формам нынешней партийной и советской работы. Члену партии, который так «специализировался» на своей ведомственной работе, что утратил нравственную связь с партией, незачем оставаться в партии. Он может быть полезным советским работником, но ему нельзя давать голоса в определении общей политики партии. Коммуниста, которому грозит такое перерождение, должно вовремя остановить307.
В период режима экономии вовремя останавливать таких коммунистов и советских работников было поручено Наркомату рабоче-крестьянской инспекции СССР (НК РКИ). С этого времени РКИ выступила поставщиком новостей о самых различных вариантах проявления ведомственной волокиты. До начала 1927 года дискурс о ведомственности был под полным контролем центральных и местных подразделений РКИ. Однако подход РКИ к ведомственности отличался от того, как смотрел на эти вещи Дзержинский. Представители РКИ слабо размышляли над той проблематикой, которую им приходилось решать. Они не измеряли ведомственность с точки зрения большевистского холизма, не сопоставляли ее с государственными интересами или с суммой всей советской промышленности, как это делал Дзержинский. Инспекторов в первую очередь интересовала ведомственность в контексте бюрократической исполнительности.
Чиновники РКИ определили ведомственность как ведомственную волокиту. Уже в мае 1926 года зав. сектором контроля и проверки НК РКИ В. М. Косарев отмечал: «Во многих случаях <…> наши обследования сталкиваются с ведомственной волокитой. Трудности борьбы с этой волокитой чрезвычайно велики. Когда мы предлагаем применить дисциплинарное взыскание, вместо того, чтобы встретить помощь, мы подчас получаем отпор»308. Показательной была история проверки причин задержки рассмотрения изменений в законе о подоходном налоге в Наркомфине и Госплане. Она выявила, что во всем виновата «бумажная волокита»: «<…> у Наркомфина и Госплана не оказалось надлежащей согласованности; обоими учреждениями была проявлена ведомственность»309. Другое заметное дело РКИ против ведомственных органов страхования при Народном комиссариате внутренней и внешней торговли СССР (НКВТ) и Госторге продолжалось два года. Страховые и учетные отделы, которые ведали страхованием товаров путем отчислений с их стоимости по установленным нормам в специальный фонд, кочевали по разным управлениям НКВТ, пока не были ликвидированы под нажимом КН РКИ в июне 1926 года310. На страницах «Правды» эта история была названа «апофеозом ведомственности»311.
В контексте борьбы с ведомственностью РКИ также инициировала обсуждение вопроса о соотношении контрольных функций инспекции и контрольных органов при ведомствах. Они были созданы после реорганизации РКИ в 1923 году. Тогда рабоче-крестьянская инспекция была сохранена, но на основе принципа самоконтроля наркоматы получили право создавать ведомственные контроли в госучреждениях и хозяйственных объединениях (трестах и синдикатах). Повышенный статус РКИ в период режима экономии позволял пересмотреть такое положение дел. Инспекторы отмечали, что между РКИ и контрольными аппаратами в ведомствах так и не появилась организационная связь, что вело к распыленности, параллелизму и разобщенности. При отсутствии самостоятельности у ведомственных контрольных органов практически невозможно было устранить выявленные дефекты и применять взыскания: «Они бессильны осуществить какую бы то ни было, хотя бы самую очевидную и бесспорную, меру без согласия на нее администрации» и «в результате обычно получается волокита и запоздалость»312. Решение проблемы предлагалось за счет объединения всей контрольной работы на базе контрольно-поверочного сектора наркомата РКИ313.



