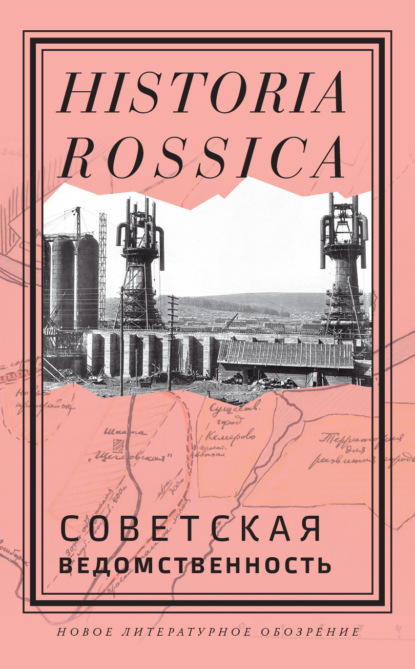
Полная версия:
Советская ведомственность
В контексте режима экономии Тамбовский губисполком инициировал регулирование и сокращение междуведомственных и ведомственных комиссий и совещаний, которые создавались на местах по решению самых разнообразных проблем. Кому-то было необходимо провести совещание для определения видов на урожай, кому-то для проведения ударных кампаний314. Рационализация госаппарата в период режима экономии означала в том числе сокращение ведомственных комиссий и перевод их в категорию производственных совещаний315. Одновременно, по поручению Совнаркома с целью снижения расходов, НК РКИ СССР начал обследование проводимых в стране ведомственных съездов и конференций. В 1925–1926 годах только в десяти учреждениях было проведено восемьдесят пять многолюдных (пятьсот и более делегатов) мероприятий всесоюзного масштаба316.
Таким образом, административная рациональность описывала ведомственность в первую очередь в категориях бюрократизма и волокиты. Это было существенное изменение по сравнению с тем, как ведомственность воспринималась Дзержинским и как воспроизводилась в публичном дискурсе эпохи начала нэпа. Дзержинский видел в ней не только административную проблему, но и нарушение государственных интересов. Контрольные органы не думали над тем, исполнялся или нет принцип большевистского холизма. Они интересовались, как работают советские органы власти, как они управляют, каким образом они согласовывают решения, не мешают ли они развитию промышленности и не затягивают ли с резолюциями. Все это привело к масштабной ликвидации комиссий, съездов, конференций, совещаний, ставило под удар Советы и их исполнительные институты, которые не поспевали согласовывать деятельность хозяйственников. Инспекторы пытались построить такие административные органы, в которых отсутствовали чинопочитание и «рутинерство»317. Однако они все чаще приходили к выводу, что руководители, занятые непосредственной оперативной работой, страдали «куриной слепотой», попадали в плен аппарата и не видели, что творится в их учреждении318. В дискурсе рабоче-крестьянской инспекции артикуляция ведомственности была не инструментом гувернаментализации государства, но механизмом рационализации государственного аппарата.
Рационализация аппаратаРежим экономии стал режимом контроля над советским администрированием. Управленцы и служащие, порождавшие волокиту, объявлялись выразителями ведомственной идентичности и притеснителями государственных интересов. Теперь ведомственность выявлялась только в аппарате, становилась слабостью служащих, но не хозяйственников. Она уже не понималась как разобщенность, а промышленные тресты не рассматривались как источники, порождавшие ее. Если Дзержинский говорил о ведомственности в промышленности, межведомственной борьбе промышленных предприятий друг с другом, конфликте с транспортными институтами, наносившем вред государственным интересам и всему народному хозяйству, то в дискурсе, который воспроизводил РКИ, ведомственность была пороком многочисленных советских органов власти. Гувернаментализация аппарата становилась главным типом рациональности практик (у)правления. Так, в феврале 1927 года на V пленуме Центральной контрольной комиссии ВКП(б) нарком рабоче-крестьянской инспекции СССР Серго Орджоникидзе призвал к решительному пересмотру сложившейся системы госаппарата в соответствии с задачами социалистического строительства, уничтожению «бюрократических извращений» и борьбе с волокитой319.
Прямым следствием реализации принципа большевистского холизма было отрицание ведомственности в промышленном народном хозяйстве. Вначале большевики защищали совокупную государственную промышленность, но в итоге такая их позиция привела к непогрешимости самих промышленных трестов, которые и составляли суть этой промышленности. Промышленность страдала не от ведомственности в хозяйственных отношениях, но в кабинетах и коридорах согласующих законодательных учреждений. Пример тому – очерк о недействующем химзаводе в Забайкалье, павшем «жертвой плохой бухгалтерии и узких ведомственных соображений» и попытках местной газеты «Забайкальский рабочий» вернуть его к жизни, которые столкнулись с чередой согласований «ведомственными Отелло»320. Промышленные тресты являлись образцом выстраивания работы без бюрократизма. Не исключались варианты расширения компетенций наркоматов при решении самых разнообразных вопросов без согласования с советскими органами. В частности, профессор А. Елистратов предложил внедрять «практику функциональной системы» по тейлоризму, которая «даст возможность перестроить госаппарат по типу индустриальных предприятий и широко применить к рационализации государственного управления могучий по скрытым в нем возможностям метод производственной трактовки»321. Таким образом, инспекторы и контролеры совершили важный поворот в осмыслении ведомственности, они освободили производственников от порока и наградили им советских аппаратчиков и служащих.
В 1928–1929 годах на страницах центральной прессы ведомственные топосы были существенно свернуты. Они полностью пропали в контексте активности промышленных трестов и предприятий. Не исключено, что дискурс был очищен в связи с Шахтинским делом. Разгром «контрреволюционного экономического заговора» должен был «перестроить работу так, чтобы больше внимания обращалось на живого человека, работника, чем на бумажку, инструкцию. До сих пор по ведомственным линиям как делалось наоборот»322. В этом контексте Шахтинское дело являлось показательным процессом, защищающим принцип большевистского холизма, делом против вредителей в промышленности, подрывающих государственные интересы. Не исключено, что именно это дело дискурсивно очистило народное хозяйство СССР от ведомственности. В первую пятилетку хозяйственные организации становились непогрешимыми в социалистическом строительстве.
Однако критика ведомственности сохранялась по отношению к административному аппарату. Советские и партийные учреждения постепенно должны были стать свободными от ведомственности. Борьба с ведомственностью была борьбой исключительно с аппаратной бюрократией. В мае 1929 года на XIV Всероссийском съезде Советов председатель СНК СССР А. И. Рыков прямо заявил о монополистических тенденциях некоторых советских органов, в первую очередь губсовнархозов, которые действовали «исходя из узкой ведомственной точки зрения, из стремления сосредоточить у себя монополию всей промышленности»323. В том же месяце на Всесоюзном съезде Советов он связал эти тенденции с бюрократизмом: «Ведомственность и ведомственное буквоедство есть одно из выражений многообразного лика бюрократа и общая платформа для всех бюрократов, а в настоящее время эта платформа особенно опасна, как опасен именно теперь и административный произвол»324.
В условиях первой пятилетки планировалось, что «основательная чистка аппарата» избавит советские органы и наркоматы от ведомственных пороков. Так, Наркомфин был в плену «бюрократической закостенелости» и «ведомственного „патриотизма“»325, а Наркомтруд страдал от «ведомственного благодушия»326. Партия также была затронута перестройкой аппаратной структуры. Окончательное очищение советского и партийного аппарата от ведомственных проблем в публичном дискурсе произошло не просто в период великого перелома, но фактически в июньские и июльские дни 1930 года, когда состоялся XVI съезд партии. Как сообщала на съезде Центральная ревизионная комиссия ВКП(б), благодаря функциональному построению аппарата она устранила в работе ЦК ВКП(б) «ведомственность отделов». Председатель комиссии М. Ф. Владимирский констатировал следующее:
Поскольку при функциональном построении одна и та же организация является объектом руководства со стороны отдельных частей аппарата, то предполагается необходимость предварительной увязки между отделами. Этим устраняется та ведомственность, которая наблюдается, например, в каком-нибудь плохо сколоченном советском учреждении. В работе ЦК, например, на каждом заседании секретариата можно видеть, как при постановке того или иного вопроса председательствующий секретарь ЦК предварительно перед заслушиванием вопроса ставит вопрос заведующему тем или иным отделом: а вы рассматривали этот вопрос, положим, с таким-то отделом вместе или нет? Что это значит? Это значит: подошли ли вы к этому вопросу с общепартийной точки зрения или вы подходите с ведомственной точки зрения своего отдела. Вот это новое построение аппарата и дало возможность сейчас ЦК в своей работе иметь аппарат, в котором ведомственность все больше и больше исчезает и каждый отдел начинает рассматривать всякий вопрос с точки зрения всей партии, как одного целого. <…> Аппарат нашей партии никогда не был отделен от нашей партии327.
Таким образом, в период великого перелома гувернаментализация государства и бюрократии была завершена окончательно. Сталинская индустриализация превратила государство и его социалистический промышленный проект в непогрешимый акт. То, что составляло суть государственных интересов в Советском Союзе, – производственные отношения, производственные силы и средства производства, то есть то, что формировало народное хозяйство, было освобождено от ведомственности. Одновременно с этим публичный дискурс 1920‑х годов воспроизводил административный тип рациональности. Поле употребления «ведомственных» лексем ограничивалось субординационными нейтральными коннотациями или заметной критикой советской бюрократии. Но в наступающей эпохе сталинизма даже в этом гувернаментальном контексте – борьбе с бюрократизмом – понятие «ведомственность» становилось лишним. Вместе с завершением рационализации государства был рационализирован и его аппарат.
В борьбе с бюрократизмомЛетом 1930 года на XVI съезде партии Сталин объявил борьбу с бюрократизмом одной из главных задач развития партии. Однако при всех проблемах, которые порождали старые и новые советские бюрократы, Сталин не указал на ведомственность. Не говорил он о ведомственности ни до этого съезда, ни после. При этом он неоднократно высказывался о бюрократической канцелярщине в государственном аппарате, но никогда публично не соотносил бюрократизм и ведомственность. Мне кажется это очень важным наблюдением, показывающим, что в отсутствие сталинского канонического определения в дискурсивном поле партийные и советские функционеры и активисты обладали определенной свободой выбора в интерпретации и использовании предиката ведомственное и ведомственности как понятия. Вместе с тем после XVI съезда, где Владимирский объявил победу над ведомственностью в партийном аппарате, ее артикуляция пропала на несколько лет. Первая пятилетка завершилась без каких-то серьезных ведомственных проблем, которые государство могло или хотело бы признать публично.
Не изменилась ситуация и в ноябре 1932 года, когда вышло Постановление СНК СССР «О сокращении аппаратов и ликвидации объединений». Вроде бы последовала очередная антибюрократическая кампания с целью экономии значительных средств, перенаправлявшихся для нужд индустриализации. Проводил масштабное мероприятие объединенный орган – Центральная контрольная комиссия и Рабоче-крестьянская инспекция (ЦКК-РКИ), – который риторически обыгрывал ее как борьбу с бюрократическими наростами, лишними звеньями, параллелизмом, вредной сутолокой, неразберихой, как усиление ответственности каждого работника328. Однако, в отличие от прошлых больших контрольных проверок 1926 года, этой кампании оказалась чужда антиведомственная риторика. Ведомственность практически исчезла из большевистского языка в конце первой пятилетки.
Изменения последовали лишь в период второй пятилетки, когда «узковедомственные интересы» или «узковедомственные дела» иногда фигурировали на страницах печати в контексте борьбы с бюрократизмом или для преодоления ограниченности институционального взгляда329. Все примеры критики и самокритики были связаны с работой государственного аппарата. Так, молдавские чиновники подменяли и компрометировали «своим ведомственным бредом советские законы»330. Профсоюзы по социальному страхованию работали «бюрократическими, ведомственными методами»331. Райкомы заседали не на активах, а на «своей ведомственной колокольне»332. Члены Смоленского партактива во время собраний предоставили слово по ведомственному признаку и вели разговоры только о «ведомственных делах»333. Ярославский горком партии не занимался воспитанием масс, а в «ведомственном угаре» обсуждал, «где открыть ресторан, где в городе расставить тумбочки»334. Промышленно-транспортные отделы некоторых обкомов превратились в «толкачей» и «плохо работающие главки», а сельскохозяйственные отделы, в свою очередь, стали похожи на земельные управления335. Работа актива Госплана СССР свелась к «мелкой ведомственной перебранке отраслевых секторов» и носила «архиделяческий характер»336. Единственным исключением была критика в адрес Наркомата путей сообщений, в котором из‑за «ведомственных соображений» происходил простой вагонного парка при особой важности заготовки зерна337.
В 1934 году на «Съезде победителей» Сталин продолжал называть источником трудностей большевиков «наше плохое организационное руководство» и «бюрократизм и канцелярщину аппаратов управления». В какой-то степени, говоря, что имеет место «болтовня о „руководстве вообще“ вместо живого и конкретного руководства»338, Сталин гувернаментализировал (у)правленческие практики. Желание вождя было дискурсивно успешно подхвачено, поскольку вплоть до принятия Конституции 1936 года в советской прессе можно наблюдать всевозможные разоблачения бюрократизма. На этом съезде он также не говорил о ведомственности. Вместе с тем он связывал недостатки работы с «функциональным построением организаций и отсутствием личной ответственности». Вероятно, поэтому в середине 1930‑х годов обвинения в ведомственной точке зрения часто переходили на уровень отдельного человека, а не всего аппарата исполкомов, партийных комитетов, ведомств, наркоматов или предприятий. Обвинялись не институты, а личности. Так, например, в колхозной системе под ударом всегда были председатели риков339.
Главным оружием против ведомственных конфликтов оставался контроль, а органы, его осуществляющие, тем самым были основным риторическим производителем дискурса о ведомственности. Единственным партийцем, кто на XVII съезде оценивал ведомственные конфликты как проблему, был Л. М. Каганович, который по итогам съезда занял пост председателя Комиссии партийного контроля ВКП(б). Он с гордостью рассказывал, что ЦК партии в порядке проверки исполнения по конкретным постановлениям вмешивался и прекращал «ведомственные поединки» и «в результате оперативной мобилизации всех сил» промышленность подтягивалась и бралась за заказы «по-государственному»340. Он призывал не обижаться на критику: «Нужно отбросить ведомственное самолюбие, так как дело идет об интересах рабочего класса, о лучшем использовании наших ресурсов»341. Эти высказывания показывают, что Кагановичу не был чужд большевистский холизм. Однако канон задавал Сталин, а для него Советское государство было лишено каких-либо конфликтов, только утопало в канцелярщине.
Все представленные нарративы указывают, что внутридискурсивная деривация «ведомственного» трансформировалась исключительно в бюрократическом контексте. Субординационная подчиненность и все разнообразие документооборота стали наиболее распространенным референтом «ведомственных» или «подведомственных» определений. «Ведомственное» нагружалось вариантами бюрократизма. В центральной прессе редкий бюрократ не обвинялся в «узковедомственной точке зрения», а «ведомственные споры» выступали типичным канцелярским проявлением практик (у)правления, которые было невозможно отделить от администрирования, между функционерами от разных инстанций. Другим важным моментом дискурсивной рационализации ведомственного в период первой и второй пятилеток стал отказ от большевистского холизма. Теперь не государственные интересы декларировались в качестве пострадавшего от ведомственных споров, не абстрактная совокупность советской промышленности, а конкретные люди, трудящиеся, представители «народа», рабочие или колхозники. Крупная индустриальная промышленность в Стране Советов не могла страдать ведомственностью, поэтому многочисленные корреспонденты газет не использовали это понятие при описании проблем народного хозяйства. Лишь мелкие хозяйственные предприятия попадались на «ведомственных точках зрения». Однако запрет критиковать промышленные наркоматы и тресты давал свободу для разоблачений бюрократических слабостей в административных аппаратах, а также выводил эту критику в новое дискурсивное поле, которое сформировалось в процессе коллективизации деревни.
Коллективизация ведомственностиВычеркивание ведомственных лексем из промышленного контекста и воспроизводство бюрократических пороков административного аппарата не исчерпывали все возможные формы репрезентации ведомственности в публичном дискурсе. Дистрибуция употребления этого понятия при описании сельскохозяйственных отношений усиливалась настолько, насколько большевики устремлялись в деревню. Государственное вмешательство в сельскую местность определялось коллективизацией, в процессе которой экономическая жизнь в деревне становилась частью большевистского холизма и все больше соотносилась с государственными интересами. Расширение государства за счет новых дискурсивных полей одновременно, в соответствии с холистической установкой, распространяло категорию ведомственности на эти новые дискурсивные описания аграрной реконструкции.
Чем глубже государственные агенты проникали в деревню, тем больше они наблюдали явления, обозначаемые ими как ведомственные. На XV съезде ВКП(б), который утвердил план коллективизации, В. М. Молотов подробно описал, что такое ведомственность в условиях кооперации деревни:
К сожалению, наши кооперативные организации даже между собой в мире жить никак не могут. Если вы возьмете нашу потребительскую и с.-х. кооперацию, то мы имеем в настоящее время, в особенности в центре, такое положение: это непримиримые враги, это ведомственные «супостаты» в отношениях друг к другу. Драчка между собой здесь идет вовсю. Обслуживают одного и того же мужика, работают для одной и той же деревни, охватывают уже весьма значительную часть в основном одной и той же массы бедняков и середняков, но в их отношениях порой столько ведомственной непримиримости, ведомственной узости, совсем не похожей на коммунистическое отношение к своей работе, которое делает их из друзей по работе ведомственными врагами друг другу, чем, между прочим, доказывают недостаточно активное участие масс в кооперативном строительстве. А посмотрите на отношение кооперативных органов к государственным органам, например, на отношения с.-х. кооперации к с.-х. кредиту, – тут вы увидите буквально примеры военных сражений, постоянные взаимные атаки и нападения, хотя эти организации делают одно и то же дело342.
Молотов отчетливо фиксировал важность большевистского холизма, нарушение которого, в данном случае посредством «сражения» с государственными органами, являлось извращением коммунистической позиции, то есть отношения к труду. Однако молотовские высказывания в конце 1927 года не были еще устоявшейся нормой в изображении аграрных преобразований.
Ситуация в корне поменялась в 1930 году, когда громкие реляции о трудовых подвигах в колхозах и о перевыполнении планов коллективизации дополнились сообщениями о трудностях ведомственных взаимоотношений. Вероятно, сталинское обличение «головокружений от успехов» и подготовка к XVI съезду партии задавали контекст вестей о ведомственных спорах в деревне. С другой стороны, эти сигналы с мест разворачивались на фоне административных преобразований, а именно ликвидации системы округов. Критике подвергались окружные земельные управления, которые превратились в «сугубо-ведомственный передатчик, в канцелярского посредника между республикой и районами»343. После ликвидации окружной системы район стал рассматриваться основной административно-территориальной единицей, способствующей социалистической перестройке села. Нарком РКИ УССР В. П. Затонский считал, что укрепление района было направлено против «старых традиций и затхлой ведомственности, циркулярщины, чиновной безответственности»: «Районные работники должны быть не только и не столько агентами тех или иных ведомств, а организаторами, руководителями местных органов советской власти»344. Рецепция «ведомственного» в описаниях колхозного строительства в большинстве случаев указывала на состояние бюрократического порядка/беспорядка. На страницах центральных газет описывались самые различные виды административных конфликтов между колхозсоюзами и земельными управлениями, МТС и колхозами. Это были яркие примеры «ведомственных споров».
В условиях ведомственной волокиты агрономы земельных органов становились не иначе как «кулацкими идеологами», отождествляющими колхозы с «помещичьими хозяйствами»345. Во время путины Союзрыба, Всекопромрыбаксоюз и колхозы толкали рыболовство в «ведомственную грызню, путаницу, рутину»346. «Ведомственная неповоротливость», суетня и взаимные обвинения являлись обычным делом при составлении планов контрактации347. На юге Крайзу, Крайтрактор и Крайколхозсоюз затягивали решение по питанию обычного тракториста в своих административных корреспонденциях348. Реальная перестройка работы сберегательных касс на селе подменялась «ведомственной шумихой»349. Колхозцентр, Садоогородцентр и Союзтабак, которые были не способны помочь «колхозной системе», приводили к аналогичным спорам и грызне во время урезания утвержденных центром сумм на строительство плантационно-технических сооружений для табаководства350. Бакинская кооперация при передаче ряда закрытых рабочих кооперативов предприятию Азнефть соблюдала «свои узковедомственные интересы в ущерб рабочему снабжению» и пыталась не передать животноводческие и молочные фермы351. В особых случаях «ведомственные интересы» устанавливали в колхозах новые социальные порядки. Так, Башкирский союз потребительских обществ использовал реализацию товаров для взыскания паевой задолженности. Такое административное взыскание сочеталось с «открытым товарообменом»: колхозник должен был сдать на пять рублей продуктов и уплатить членские взносы, прежде чем на такую же сумму купить товаров352. Строительство в колхозах нередко было жертвой «кабинетно-ведомственного творчества наркомземовских проектировочных организаций», которые не обладали навыками квалифицированных специалистов в области сельской архитектуры353. Или того хуже, в некоторых белорусских колхозах руководители МТС и машинно-тракторных мастерских (МТМ) вели самые настоящие «ведомственные войны»354.
«Ведомственной» оценке оказалась наиболее подвержена деятельность Центрального управления народно-хозяйственного учета (ЦУНХУ), которое в 1934 году провалило учет поголовья скота. Все беды советского животноводства связывались с этим «ложным учетом»355. В риторике разоблачения газетчики объявляли перепись скота не ведомственным делом, а ответственной и политической кампанией, в том числе местных организаций356. Одновременно с этим в прессе никто не скрывал, что сама структура племенного животноводства была сильно раздроблена и разбросана по отдельным ведомствам, наркоматам и хозорганам. Не было согласованности по породному районированию между Наркомземом и Наркомсовхозов («Необходимо этот ведомственный спор прекратить»). Породное районирование сравнивалось с каучуковой формулой, куда «каждой организацией и ведомством вносятся поправки и поправочки»357, а использование племенных производителей – как узковедомственный и антигосударственный подход358.
Похожее состояние дел было в районировании посевов зерновых культур359. Работники Всесоюзного института растениеводства жаловались, что Наркомзем, Наркомсовхозов и Наркомснаб имели свои «собственные» селекционные станции, сортосеменные и товарно-сортовые посевы. В итоге эти наркоматы осуществляли районирование на основании «ведомственных хозяйственных соображений»360. Корреспонденты «Правды» разоблачали ведомственную волокиту Наркомзема, Наркомфина, Наркомлеса и Наркомсовхозов, которые не могли передать колхозам остающиеся неиспользованными пастбища и сенокосные угодья361. В Сибири Наркомсовхозов оставлял «беспризорными» многие зерновые предприятия, а местные совхозные управления испытывали по этому поводу неоправданный «ведомственный оптимизм»362.
Итак, ведомственные лексемы были органичной частью языка, описывающего проблемы становления советской аграрной экономики. При этом сам ведомственный дискурс в периодике и литературе рассматривался опасным врагом нового сельского мироустройства. Всероссийское общество крестьянских писателей ставило задачи преодоления тенденции «ведомственной» критики. Для крестьянских авторов успехи коллективизации означали расширение рамок своей общественной организации, в то время как «тенденции „ведомственности“» являлись худшим проявлением «обывательской ограниченности». «Главными жизненными центрами» такой организации выступали совхозы и колхозы, а крестьянский писатель превращался в писателя совхозно-колхозного363. Также драматург должен был обладать знаниями колхозно-совхозной действительности и разорвать связь с традицией «ведомственных» пьес, когда за один присест сочинялись водевили на тему различных обществ, ревизионных комиссий или потребкооперации364.



