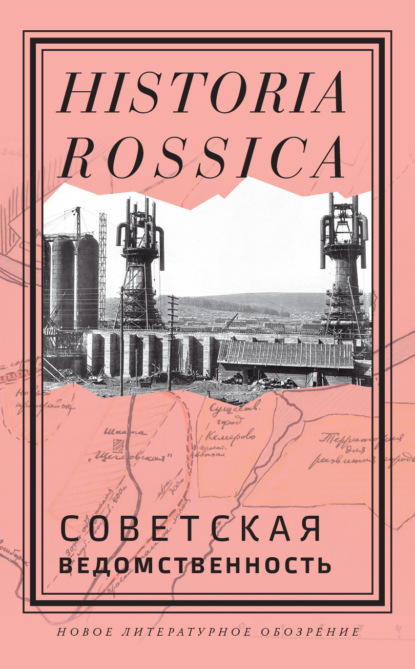
Полная версия:
Советская ведомственность
В 2011 году вышло серьезно переработанное русское издание книги «Холодный мир», написанной совместно с Йорамом Горлицким. В новой версии монографии Хлевнюк также добавил ведомственную переменную в анализ неопатримониального режима Сталина. Теперь в основе сталинизма лежали «олигархические» тенденции189. Согласно историкам, «ведомственный эгоизм» (ministerial egoism) и нежелание следовать «государственному интересу» со стороны соратников Сталина становились поводами в послевоенных репрессивных кампаниях. Однако относительная стабильность в верхах в этот период вела к «олигархизации» и обеспечивала возвращение к практикам «коллективного руководства». Соратники вождя хоть и утратили политическую самостоятельность, но в то же время наращивали определенную ведомственную автономность при решении оперативных вопросов190. Эта автономность порождала формирование клиентских сетей членов высшего руководства191. После смерти Сталина режим трансформировался, и ведомственное влияние членов Политбюро переросло в политическое, поскольку олигархическая система могла спокойно функционировать без диктаторской составляющей192.
Сегодня в историографии фактически отсутствуют исследования, которые можно отнести к ведомственному направлению. Хлевнюк переключился на изучение неформальных практик преодоления забюрократизированных институциональных ограничений в реалиях теневой экономики193. Редкие исключения составляют исследования «ведомственного лоббизма». Так, А. В. Захарченко показал, что для помощи своим предприятиям министерства требовали получения дополнительного финансирования, перераспределения бюджетов, пересмотра плановых обязательств и давления на другие ведомства. Это вертикальное лоббирование играло существенную роль в функционировании советской экономики и являлось обязательным инструментом корректировки правительственных директив194. Историки В. Л. Некрасов и А. А. Хромов описали противостояние «традиционных» и «новых» отраслевых лобби в эпоху Хрущева195. Согласно Некрасову, противодействуя «ведомственному эгоизму и местничеству», центральные партийные, правительственные и плановые органы власти так и не смогли предложить новую модель развития советской экономики196. Раскрывая конфликтную природу советской ведомственной экономики, тем не менее такие исследования не шли дальше самой советской (само)критики управления и нередко просто копировали государственную риторику середины XX века.
Наиболее заметной в этой области можно считать фундаментальную работу Н. Митрохина. Он также указывал на значительное давление на систему советского планирования со стороны регионов и ведомств. Однако эти группы влияния были производными от ключевых политических фигур Политбюро197. Как показало исследование, советские бюрократы использовали понятие «ведомственные „системы“», обозначавшее «корпоративные структуры, распространяющие свое влияние на значительную часть территории страны (если не на всю страну)». Они были готовы обеспечить пожизненную занятость, постоянный рост статуса и доходов, обладали корпоративной моралью, символами успеха и культурными приоритетами. Партийно-государственные чиновники шли на «взлом» этих структур методами административного «волюнтаризма», в частности наделяли «системы» несвойственными им функциями. Тем не менее этим «системам» удавалось обзаводиться лоббистами и накапливать ресурсы. Митрохин оценивал ведомственные «системы» позитивно, поскольку, превращаясь в многофункциональные корпорации и обеспечивая «широкий спектр услуг», они придавали «гибкость советской системе»198.
Таким образом, в 1990–2000‑х годах в историографии сформировалось ведомственное направление, которое выделило проблематику ведомственности как самодостаточную в изучении советской экономики и политики. Этот новый фокус объединил в первую очередь представителей исторической науки, которые изучали эпоху сталинизма. Исследовательская оптика этих ученых включала выделение институциональной самоорганизации и идентификации в условиях диктатуры. Ведомства обладали значительной автаркией в принятии административных решений и определении тактических действий. Одновременно историки понимали ведомственность как устоявшуюся иерархическую систему. Поэтому при институциональном анализе ученые обращали внимание преимущественно на вертикальные взаимодействия, в то время как горизонтальные неформальные связи оценивались исключительно в качестве механизмов поддержки своего субординационного положения. Однако выводы о том, что Сталин был арбитром в бесчисленных ведомственных конфликтах и таким образом сам являлся частью этой системной ведомственности, привели к серьезному смещению исследовательского фокуса в сторону учета персонального фактора. Историки стали концентрироваться на изучении, как метко выразился Николя Верт, «героев ведомственности»199. Изменчивость исследовательских практик в рамках ведомственного направления приводила к смещению фокуса научного поиска. Исследователи начали предполагать, что ведомственность и связанные с ней административные взаимоотношения напрямую зависели не от экономических и бюрократических институтов, а от возглавлявших их личностей. Прежние исследовательские сценарии об институциональных идентификациях конца 1980‑х – 1990‑х годов оказались под влиянием смежных концепций, актуализировавших неформальные личные связи, а ведомственное направление несколько затерялось в историографии.
ПостревизионизмМасштабное фукианское наследие кардинально изменило образ социальных и гуманитарных наук. В середине 1990‑х годов русистика также начала переосмысливать языки описания истории Советского государства и населяющих его людей. Новый подход основывался на смещении фокуса от истории политики конкретных личностей, групп или институтов к изучению отношений власти/знания и практик управления. Этот постревизионистский взгляд сосредоточился на проблематизации нового человека и советских дискурсов, которые воспроизводились не столько через пропаганду и идеологию, сколько посредством политики экспертного знания, индивидуальной адаптации к социальной реальности и дозволенных субъективностей. Одновременно с этим такая постановка вопроса выводила на размышления о государственных практиках насилия, контроля и надзора над разнообразным населением СССР. Сравнивая по этим параметрам Советский Союз и европейские страны, историки однозначно относили социалистическую систему к явлению модерности, хоть и отмечая ее экстремальный вариант.
В знаменитой книге «Магнитная гора» Стивен Коткин раскрыл, что основу советской политической системы составляли многочисленные дискурсивные практики говорения «по-большевистски». В этой теоретической модели политические и экономические институты выступали инструментами «практического колониального управления», которые поддерживали дискурсивную репрезентацию Советского государства. Пример «сталинской цивилизации» – города Магнитогорска – показал, что в новых индустриальных центрах Советы и партия делегировали свои властные функции ведомствам (commissariats), которые от имени государства «владели и управляли» и осуществляли «колониальное господство»200. Тем самым отраслевые ведомства в первую очередь являлись структурами, определяющими границы проявления советских субъектов и обеспечивающими сталинский дискурсивный порядок.
Однако эти тезисы Коткина о советском дискурсе нашли развитие в иной теоретической траектории. Продолжая работать с дискурсивным анализом, часть историков проявили больший интерес к артикуляции советскими гражданами своей субъектности в условиях тотальной большевистской идеологии. Как и в случае с другими историографическими направлениями, ученые дрейфовали в сторону изучения индивидуальных практик и персоналий, что, соответственно, приводило к недооценке значимости институциональных или бюрократических рамок. Однако исследователи советской субъективности подчеркивали, что граждане выступали агентами и продуктами постоянно меняющегося официального дискурса. Наряду с этим правовые и административные нормы отходили на второй план при соперничестве между разными моральными «я» советского гражданина201. Этот эффект стал еще более заметен в послесталинскую эпоху, когда усиливающееся давление государственных институтов на население одновременно сопровождалось расширением дискурсивного поля советской субъективности202.
Согласно постревизионистам, конструирование нового социального порядка в СССР обеспечивалось за счет научной экспертизы, которая становилась инструментом социалистической рационализации и унификации разнообразных культур и сообществ. Опираясь на труды социолога Зигмунта Баумана, историк Питер Холквист описывал такую советскую модерную систему насилия, учета и контроля с помощью концепта «политика населения». Используя науку, Советское государство осуществляло статистико-бюрократическую репрезентацию населения и делало его лояльным с целью построения социалистического общества203. Подобная исследовательская модель выстраивала тотальное институциональное поле советской политической системы, которое поддерживалось дискурсивно государственными агентами. Так, в своей ключевой монографии историк указывал на вызванное Первой мировой войной укрепление духа «государственной сознательности» (state consciousness), то есть стремления объединить под эгидой государства всех граждан путем преодоления партикуляристских интересов (particular interests)204.
Такого рода политика населения в значительной степени реализовывалась по ведомственным линиям. В частности, Даниэл Орловски описал становление советской традиционной бюрократии через профессиональный корпоративизм. По его мнению, даже демократические возможности, которые открывались перед российским населением в эпоху революции 1917 года, были ограничены исполнительной бюрократией и ее потенциалом создавать культы. Он считал, что ведомственность была порождением Первой мировой войны, когда были созданы новые институциональные механизмы и осуществилось перераспределение власти в пользу модерных корпоративных форм управления населением. В нестабильных условиях войны и революции новые экономические и общественные институты, профессиональные ассоциации и социальные группы вели торг за власть и скудные ресурсы внутри традиционной российской министерской бюрократии и за ее пределами. Появление корпоративизма было продиктовано этими новыми профессиональными и экономическими интересами, как правило связанными с низшими средними слоями и бюрократией в областях здравоохранения, науки, инженерного дела и образования. Со временем они рассматривали большевиков как своих покровителей, и административное влияние профессионалов сопровождало упадок демократии. Эти тенденции определяли политику Временного правительства, а после октября 1917 года корпоративизм окончательно стал основой постреволюционной и поствоенной власти большевиков205.
Эту мысль подробно развил Дэвид Хоффманн. Он указал, что если после 1918 года воевавшие державы отказались от методов управления в эпоху тотальной войны, то советское правительство, наоборот, через сохранение различных государственных ведомств – от здравоохранения до госбезопасности – положило их в основу государственной системы. Процесс бюрократической консолидации в новых «социальных» наркоматах преследовал цель укрепить советскую власть. Усиление Советов основывалось на типичном для модерных государств союзе со специалистами и профессионалами, которые в этих государственных ведомствах занимали посты чиновников206. Однако Хоффманн отдельно не выделял значимость советских институтов и корпораций. Он считал, что советская идеология технократизма воспроизводилась не институтами, администраторами и бюрократами, а группами специалистов – экономистами, инженерами, статистиками, врачами и т. д.207
Итак, подход постревизионистов фокусировался преимущественно на управленческих практиках насилия, учета и надзора, которые осуществлялись с помощью специалистов. Поэтому историки придавали существенное значение советским ведомствам, в которых работали такие профессионалы, обеспечивавшие функционирование практик управления населением. Если Холквист сосредоточился на изучении статистиков военного ведомства, то исследование Алена Блюма и Марианы Меспуле было посвящено «главному ведомству, где осуществлялись подсчеты» – Центральному статистическому управлению СССР208. Одновременно с этим авторы отмечали, что статистика различных ведомств была наиболее действенным средством государственных интервенций в социальную среду. Так, Дэвид Ширер доказал, что статистическое описание советских граждан «носило ведомственный характер» и осуществлялось в первую очередь разными структурами госбезопасности. В результате этой «ведомственности и компанейского стиля» в полицейской системе издавались противоречащие друг другу отчеты о преступности, основанные на разных узковедомственных статистиках209. На материалах ведомственной милиции (ведмилиции) (vedmilitsiia or enterprise police) Ширер раскрыл иерархическую основу политики населения, в которой головное ведомство опасалось роста собственных периферийных структур, осуществляющих контроль над населением210.
Помимо статистического учета особое место в анализе практик управления занимало градостроительство. Историк архитектуры Марк Меерович, будучи никак не связанным с постревизионистским направлением, тем не менее описывал Советский Союз как государство, формирующее лояльное общество посредством жилищной политики ведомств. По его мнению, центральным инструментом в управлении населением и принуждении его к труду было «ведомственное жилище» и «государственно-ведомственная» форма владения и распоряжения жильем211. С конца 1920‑х годов в основе государственной градостроительной политики лежала доктрина «ведомственного рабочего поселка». Поселение представляло собой «самостоятельный жилищно-производственный комплекс», структура которого должна была обеспечить формирование территориально-административной организации, способствовать управлению населением как в трудовом, так и в бытовом отношении. Таким образом, ведомственный рабочий поселок осуществлял социальную фильтрацию и трудовую мобилизацию населения212.
Антрополог Стивен Колье переработал идеи Мееровича в контексте биополитики Мишеля Фуко. Описывая историю металлургического завода в городе Белая Калитва, автор выделил явление «предприятие-центризма» (enterprise-centrism) в послевоенные годы213. Ученый обозначал ведомственность понятием «министериализм» (ministerialism), при котором отраслевые министерства через свои местные филиалы становились центральными игроками в городском развитии. По мнению Колье, главным негативным следствием ведомственности был уход градостроительной политики из-под контроля экспертного сообщества. Антрополог указывал, что к 1970‑м годам в СССР сформировались «промышленные сюзеренитеты» (industrial suzerainties), замещавшие безличную бюрократическую систему и определявшие нормы и формы городского строительства. Ведомства превращались в «хозяев городов», чья деятельность разрушала модерные практики управления посредством градостроительного планирования214.
Социальный аспект в изучении ведомственности был особенно характерен для российской историографии, которая преимущественно связывала его со становлением территориально-производственных комплексов в Сибири. В новых промышленных районах всесильные главки и комбинаты проводили политику территориального освоения – не только определяли хозяйственную жизнь в регионе, добывая природные ресурсы и организовывая новые обрабатывающие производства, но и создавали системы расселения, города, социальную и культурную инфраструктуру. По большей части российские ученые не концептуализировали эти факты в постревизионистской терминологии. Однако они реконструировали социальные процессы, определяемые ведомственностью, – урбанизацию215, принудительные миграции216, формирование культурного ландшафта217, повседневные практики рабочих218 и патернализм крупного предприятия219. Либо историки изучали различные модели ведомственного управления: «мобилизационно-гуманитарный тип» в закрытых городах220 и «командно-ведомственную систему» в районах ТПК221. Во всех этих случаях региональная историография видела в ведомствах регулятора формирования и движения населения на сибирских стройках.
Таким образом, постревизионизм предложил совершенно новую интерпретацию политической деятельности советских ведомственных институций. Ученые рассматривали ведомственность как механизм утверждения дискурсивного порядка и определения рамок советской субъективности. Основной функцией ведомств было установление учета и контроля над населением и формирование лояльных советской власти групп и сообществ. Советское государство осуществляло эту организационную деятельность в союзе со специалистами, которые получили влиятельные полномочия в государственных ведомствах, образованных в результате эпохи тотальной войны 1914–1918 годов. В первую очередь исследователи раскрыли эту политику населения через историю статистических служб и градостроительства. Однако российская региональная историография показала, что ведомственные практики управления имели более широкое распространение, оказывая преобладающее влияние на население в новых промышленных районах, определяя его идентификацию и повседневность.
***Историография советской ведомственности – это в первую очередь интеллектуальная история изучения СССР как административного и политического режима. Рассказ об артикуляции «ведомственности» и постепенном превращении ее в аналитическую категорию раскрывает всю сложность схватывания, казалось бы, всем известного советского феномена исследовательскими подходами. Это показывает наши лакуны в знании о дискурсивных практиках в СССР и нередко простое воспроизводство в научных штудиях официальных топосов, конвенционально наследуемых из советской риторики. В таком случае авторы воспринимают ведомственность как бюрократический порок системы, с которым боролось партийное и советское руководство.
Выходя за пределы советской элитологии, эта интерпретация усложнялась: единая бюрократическая модель перестраивалась в вертикальную и формализованную иерархию групповых интересов, которая посредством ведомственности постоянно подрывала многие сферы реформируемой экономики – от внедрения технологий до экологической безопасности. Такое видение позволило снять проблему «руководящей роли» партии, погрузиться в мир неформальных взаимодействий. Вместе с тем значительная часть исследователей, работавшая в рамках патрон-клиентской и неотрадиционалистской парадигмы, не определяла формальные ведомственные структуры как существенный фактор в функционировании советской системы. Исключение составили историки, которые пришли к выводу о зависимости советской административной элиты от ведомственной идентификации и корпоративного лоббизма. В то же время, вероятно под влиянием патрон-клиентизма и общего поиска изъянов в объяснениях через советские институты, это ведомственное направление вскоре стало объяснять институциональные отношения и конфликты через призму персонализации «героев ведомственности». Из этой редукционной ловушки удалось выйти постревизионистам, которые сместили исследовательский фокус в сторону изучения ведомственных ограничений дискурсивной субъективности и модерных практик управления.
Ведомственное направление принципиально по-новому подошло к решению ряда научных проблем описания советской социально-политической и экономической реальности. Излет советской эпохи и время становления новой российской государственности были отмечены постановкой в центр внимания отдельных суперведомств (Рабкрин, Госплан), осуществлявших контрольно-ревизионные функции в отношении партийно-советского и административно-хозяйственного аппарата, фиксацией роли самодостаточных и влиятельных ведомственных акторов различных уровней (Э. Рис, П. Грегори). Подобное прочтение переворачивало представление о советской системе, превращая ведомства в важнейших игроков-доминантов на поле политического плюрализма советского типа. Теперь ведомственность не только рассматривалась как тяжелейший изъян (М. Левин), но выступала ключевым принципом работы государственного механизма, условием его существования и одновременно «болезнью», погубившей СССР (С. Фортескью, С. Уайтфилд).
Раскрытие исследовательских опытов позволяет уловить ряд важнейших паттернов, свойственных в той или иной степени всей историографии о советской ведомственности. В первую очередь следует обозначить три конкретно-исторических и темпоральных контекста, наиболее значимых для интерпретации ведомственности: 1) рост системы наркоматов в конце 1930‑х годов, 2) хрущевские реформы, 3) перестройка. Изменив советскую действительность, эти события переформатировали «ведомственный мир», придав ему принципиально новые импульсы, траектории и функции. Во-вторых, все исследователи описывали ведомственные практики как нечто противостоящее «общему» и национально-государственному интересу. В-третьих, большинство ученых фокусировались на изучении феномена ведомственности в рамках вертикально интегрированных отношений, находящихся в формальном/публичном поле. За исключением авторов ведомственного направления, многие исследователи анализировали полузаконные и неформальные действия бюрократических акторов, что связывалось со «слабостью» институтов. В-четвертых, в изучении феномена ведомственности ученые нередко следовали за официальным советским дискурсом и политической конъюнктурой. В таком случае ведомственность могла восприниматься как негативное (при опоре на «антиведомственный дискурс»), так и позитивное (при опоре на статистику роста или положительное социальное воздействие) порождение централизации советской административно-командной системы.
Итак, в научной литературе о советской ведомственности существуют семь исследовательских подходов, которые не привязывались строго к хронологии: 1) бюрократизм, 2) группы интересов, 3) экономические подходы, 4) патрон-клиентизм, 5) неотрадиционализм, 6) ведомственное направление, 7) постревизионизм. Несмотря на различия, тем не менее эти концептуализации использовали преимущественно две объяснительные модели, перетекали одно из другого и тем самым определили два интерпретационных направления в историографии. Первое акцентировало внимание на роли бюрократизма, вертикальных связей и формальных отношений в советской системе: от бюрократизма к групповому подходу и экономическим трактовкам, а затем переход к ведомственному направлению. Второе концентрировалось на неформальных связях и сетях: от группового подхода к патрон-клиентизму, затем к неотрадиционализму, а в конце влияние на ведомственное направление через персонализацию данного подхода. Для развития историографии по этой проблематике также были характерны общие парадигмальные сдвиги в русистике: переход от классической советологии к ревизионизму и постревизионизму. Впрочем, выделение этих направлений и сдвигов не снимает факт того, что изучению советской ведомственности были присущи раздробленность исследовательского поля, дифференциация подходов и концептов, отсутствие единой историографической традиции и, соответственно, идентификации ученых с корпусом научной литературы по этой проблеме. Историография о ведомственности состоит из множества пересекающихся и повторяющих друг друга форм артикуляции данного феномена, в том числе в виде наличия «своих» департаментализмов применительно к различным периодам советской истории.
Игорь Стась
Глава 2. Ведомственность в советской истории
Гувернаментальность, государственные интересы и публичный дискурс 222История ведомственности – это история рационализации. На первый взгляд это кажется весьма спорным утверждением. Что рационального может быть в борьбе интересов между различными предприятиями, министерствами или учреждениями? Такие конфликты скорее отсылают к архаичным формам редистрибуции, в которых происходили отклонения в нормированных взаимодействиях экономических агентов. Можно предположить, что ведомственность в Советском Союзе была еще одним феноменом упорядочивания и минимизации издержек и рисков планового распределения экономических ресурсов. Соответственно, с точки зрения сути вещей она являлась следствием социалистической версии рыночных отношений. Если использовать подобное экономико-антропологическое описание, история ведомственности предстанет необъятным нарративом о непрерывной войне экономических субъектов и поиске рыночных механизмов в советских реалиях. Даже если это именно так, то непременно возникает вопрос о восприятии ведомственности самими современниками, которые регулярно использовали этот термин, но, очевидно, не интерпретировали его указанным выше способом. Как мне кажется, без понимания того, как именно советские граждане, функционеры и политики артикулировали феномен ведомственности в социалистической системе, вряд ли возможен ответ на вопрос: что такое ведомственность в СССР?
Основная гипотеза этой главы строится на исходном соображении, что в советском публичном дискурсе современники использовали термин «ведомственность» и предикат «ведомственное» для рационального объяснения различных административных, экономических, социальных или политических конфликтных взаимоотношений. «Ведомственность» фиксировала несоответствие декларативной норме интеракций между различными государственными агентами. По крайней мере, в публичном дискурсе современники отчетливо видели в ведомственности негативный эффект и нередко рассматривали ее как оппозицию государственным интересам. Проговаривание и осуждение ведомственности должно было искоренить конфликты в административной или экономической системе и привести их к разумному виду, то есть одобряемым отношениям, которые не вредят государству. Учитывая, насколько часто в публичном дискурсе «ведомственность» употреблялась в контексте противопоставления государству, вопрос о ее рационализации неизбежно становился проблемой рационализации государства. Исследуя то, как современники объясняли «ведомственность», мы непременно приходим к тому, как они определяли государство, поскольку для многих из них «ведомственность» наступала там, где правили бюрократы и не учитывались государственные интересы.



