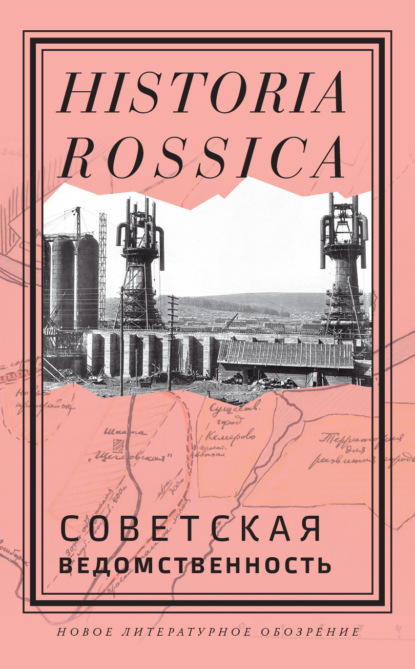
Полная версия:
Советская ведомственность
Согласно Ригби, бюрократические отношения между патроном и клиентом являлись определяющими для советской политии91. Одновременно с этим патронаж обозначал инструмент неограниченного правления и аккумуляции власти диктатора. Так, Сталин и Хрущев выступали патронами, подавляющими олигархическую систему. Они наполняли собственными клиентами ключевые государственные структуры92. При этом внутри ЦК создавались неформальные объединения на основе принципов местничества и трайбализма93.
Рассуждения Ригби выглядели по-настоящему дерзко, поскольку прежде система патронажа связывалась преимущественно с домодерными обществами. Большую роль в апроприации патронажа к советским реалиям сыграла статья политологов Кейт Легг и Рене Лемаршан, указавшая на возможность использования всего инструментария патрон-клиентской модели к недемократическим индустриальным системам94. Следующей значимой работой в этом фокусе стал текст Джеймса Оливера, который развивал концепт «семейных кругов» М. Файнсода. Он выдвинул гипотезу о «неразрушительной текучести кадров». По его мнению, созданные на основе семейных кругов клики патронов и протеже могли разрушить только географические и/или отраслевые перемещения партийно-советских чиновников за пределы их «родной» территории/отрасли. Это означало, что клиентела была глубоко укоренена в партийно-советских органах среднего и низового уровня95. К похожим выводам пришел Грей Ходнетт. Он считал, что в патронаже был залог стабилизации системы, строившейся вокруг «отношений обмена» между покровителем и подопечными. За счет этого осуществлялось продвижение интересов по секторальной (партия, правительство), организационной (департамент, министерство) или географической (провинция, республика, регион) линиям96.
Основная исследовательская задача в новой концепции как раз состояла в том, чтобы определить масштаб патрон-клиентских отношений в СССР. Под влиянием работ А. Меера Ригби задался вопросом: «Не могли ли все советские учреждения рассматриваться как различные линейные и штатные подразделения единой иерархической пирамидальной структуры?» Он отвечал, что в СССР существовал «органический» тип бюрократии, который, в отличие от «классического механистического» (веберовского), формировался не в нормальных, а в экстраординарных условиях «на ходу» или даже «по ходу». В стабильный период, пока достаточно было механистических процессов, государственный аппарат мог быть в значительной степени «предоставлен самому себе», а партия выходила на первый план тогда, когда обстоятельства требовали «действовать более органично». Ригби называл эту систему «криптополитикой», которая означала скрытую деятельность, маскирующую добросовестное выполнение назначенных организационных ролей. Она включала в себя нелегальные взаимодействия и скрытую конкуренцию между организациями, неформальные сети или клики, злоупотребление служебным положением97.
Во второй половине 1970‑х годов среди сторонников концепта патрон-клиентизма стали раздаваться голоса об ограниченности этого подхода98. Своеобразным ответом на эту критику была публикация летом 1979 года материалов симпозиума по проблемам сравнительного анализа коммунистических обществ. Одно из направлений данного мероприятия концентрировалось на теме патронажа в обществах стран реального социализма (СССР и Китай). На этом форуме Ригби приветствовал достижения выработанной политическими антропологами сетевой теории, акцентировавшей внимание на проблемах горизонтального взаимодействия и координации99. В центре обсуждения находилась статья Джона Виллертона-младшего «Клиентизм в Советском Союзе: первичный анализ». На основе количественных методов Виллертон-младший показал важность патронажа в мобильности советской партийной элиты 1960–1970‑х годов. Исследователь говорил о личном характере и реципрокности патрон-клиентских отношений в СССР. Каждый участник таких связей получал выгоду от действий другого посредством определенных сделок, в которых все являлись соучастниками, в то время как влияние и власть каждого в некотором роде зависели от влияния другого100.
Ряд ученых представили комментарии к этой статье и свое видение тематики клиентизма в целом. В данной дискуссии оставался ключевым вопрос о тотальном проникновении патронажа вовнутрь советского общества. Социолог Зигмунт Бауман, указав на традиционные корни советского клиентизма, назвал любое коммунистическое общество, возникшее на основе общества крестьянского, «обществом клиентов в поисках патрона». Согласно социологу, патрон-клиентский паттерн охватывал все советское общество, «доминировал во всех человеческих отношениях, кроме чисто личных, интимных»101. В свою очередь, Кейт Легг находила корни клиентизма в бюрократизации, приводящей к несоответствию формальных и неформальных ролей. Одни приписывались организацией, а другие реально исполнялись индивидами102. Ригби еще раз указывал, что устойчивость к драматическим событиям советской истории доказывала прочность неформальных клиентских связей, распространенных в местных партийных организациях103. При этом представители ревизионистского направления понимали патронаж достаточно узко – как средство защиты, недоступное простым советским людям.
Патрон-клиентская концептуализация упускала из анализа формальные явления, которые в теории групповых интересов и экономистами-советологами описывались понятиями «департаментализм» и «локализм». Патронаж вроде бы пронизывал всю советскую систему, но при этом не замечал различные нормативные детали или контексты в неформальных отношениях. Соединить два подхода попытались Джерри Хаф и Мерл Файнсод в совместной монографии «Как управляется Советский Союз». Размышляя над ролью институциональных акторов (министерств и ведомств) в советской политике, авторы отметили хронический характер конфликтов на почве отстаивания «ведомственных интересов» (departmental interests) в брежневском СССР104. В этой работе Файнсод поменял концепт «семейных кругов» на понятие «патронаж». В интерпретации исследователей патронаж был «помощью» (assistance), за которой местные учреждения обращались к крупным министерствам. Либо он мог проявляться в виде продвижений или «ухода со сцены» местного начальства вслед за патроном105. Ученые ассоциировали явление ведомственности с отстаиванием интересов и конфликтом между равными институциональными акторами всесоюзного уровня, в то время как патронаж был региональным фасадом этого институционального плюрализма.
Однако корифеи патрон-клиентской теории отказывались вводить ведомственную переменную в свой аналитический инструментарий. Последовательно расширяя проблематику патронажа в изучении сталинской диктатуры, Ригби описывал эти аспекты через понятия «бюрократической политики»106 и «бюрократизации» партаппарата107. В обновленном подходе ученого политический клиентизм уже был больше, чем неформальным взаимодействием, и становился «функциональной» частью советской системы. Теперь эта система соединяла «первую» и «вторую» экономики, формальные и неформальные стороны номенклатуры, а также обеспечивала взращивание региональных элит108. Сторонники патрон-клиентской теории лишь косвенно затрагивали ведомственную проблему при упоминании формализованных процессов бюрократизации109 или карьерной специализации110. В частности, теория патронажа позволяла переосмыслить процесс разрастания советского правительства. Прежде это расширение связывалось с превращением бюрократических структур в группы интересов. Но историк Джеффри Хоскинг взглянул на рост наркоматов как на возможность расширения клиентелы, особенно среди новых «красных специалистов». То есть номенклатурные назначения представляли собой мощный механизм патронажа111. Подход Хоскинга нашел свое развитие в известной статье Ригби «Был ли Сталин нелояльным патроном?». Ригби приходил к выводу, что Сталин проявлял высокий уровень «объективной лояльности» по отношению к своим подчиненным и «ближайшим товарищам по оружию», поскольку вел себя как босс мафии, предлагавший своему окружению постоянную благосклонность и защиту в обмен на верную службу112.
В 1980‑х годах появилось несколько исследований, которые все же попытались вписать феномены департаментализма и локализма в патрон-клиентскую теорию. В первую очередь стоит сказать о статье Джона Миллера «Номенклатура: проверка на локализм?». Если четверть века назад ученый описал ведомственность языком советского официального дискурса, то в начале 1980‑х годов он попытался ответить на вызовы концепции патронажа. При этом он следовал работам Ноува, Гроссмана и Мечковского, которые описывали ведомственность в значительной степени как проблему локализма. Базовым тезисом Миллера было утверждение, что «у всесоюзного центра нет стратегии борьбы с регионализмом путем максимального рассредоточения персонала по всему Союзу»113. Он интерпретировал борьбу центра с регионализмом/локализмом как отношения недоверия. Для успеха реализации своих программ центр вынужден был опираться на местный доверенный персонал («региональные лобби»), обладающий соответствующим уровнем экспертизы и информацией, необходимой для реализации проектов в конкретных условиях. По этой причине возможности ротации региональных кадров («номенклатурного процесса») со стороны Москвы были ограниченны, и она вряд ли могла бы добиться победы над регионализмом114.
Оригинально к этому вопросу подошел Майкл Урбан, который скрестил патрон-клиентскую модель с теорией двойного сигнала Грегори Бейтсона. Он отмечал, что советская власть стремилась максимизировать эффективный контроль над подчиненными, посылая им двойной коммуникативный сигнал (double bind)115. С одной стороны, они должны были достигать плановых показателей, но, с другой, эти задания изначально устанавливались как невыполнимые. Сигнал власти встраивался в логику патрон-клиентских сетей, «упорядоченных, многосторонних (multi-party) систем вертикального и горизонтального обмена»116. Люди и организации, попадавшие в подобную ситуацию «двойной зависимости», пытались выбраться из нее через межличностные узы (interpersonal bond) и неформальные паттерны взаимопомощи, существовавшие в условиях слабых формальных структур117. Ответами на двойной сигнал также выступали явления формализма, локализма и департаментализма. Формализм был способом вовлечения других в принятие решений с целью распыления собственной ответственности. Локализм и департаментализм наблюдались в нижних уровнях общественной иерархии, где был силен эффект сообщества (the communal effect). В таком случае локализм – это горизонтальные обмены взаимопомощи и защиты местных элит, а департаментализм проявлялся при вертикальном обмене в различных иерархиях118. В интерпретации Урбана ведомственность была ограниченной, так как исходила не от элит, а от нижних уровней номенклатуры. В целом эффект этих паттернов заключался в том, чтобы оградить субъекты, присваивающие как можно больше государственной собственности для реализации конкретных проектов, от невыполнимых требований центральных властей.
Таким образом, лишь к середине 1980‑х годов проблематика ведомственности нашла отражение в патрон-клиентской теории. Она понималась в первую очередь как проблема вертикального (департаментализм и локализм) бюрократического взаимодействия и обмена (Д. Миллер, М. Урбан). Либо же она могла описываться через конфликт между всесоюзными акторами (Д. Хаф и М. Файнсод). Но во всех случаях эта артикуляция осуществлялась авторами, которые прежде работали в рамках концептуализации бюрократической элиты или группы интересов. Сторонники же патронажа вряд ли видели в ведомственности что-то большее, чем просто незначительный элемент формальной бюрократизации. Они трактовали клиентизм гораздо шире, вписывая в него не только вертикальные транзакции различных типов, но и все разнообразие горизонтальных взаимодействий, направленных на появление неформальных «региональных когорт», «клик», «альянсов» и «связок»119. Бауман усматривал основание клиентизма в «крестьянских корнях», превращавших патронаж в механизм регулирования коммунистического общества120. В силу такой тотализации патронажа, объясняющего преимущественно неформальные отношения, проговаривание ведомственных интересов в этой концепции было затруднительно.
НеотрадиционализмПатрон-клиентская теория хоть и попыталась проблематизировать феномен ведомственности, тем не менее не придавала ему особого значения в функционировании советской системы. Вместе с тем в середине 1980‑х годов в исследованиях клиентизма фокус постепенно смещался на описание советской модернизации через терминологию «архаизации» и укоренения «неформальных практик». Все больше ученых оценивали сталинскую политику как модерное обращение к традиции121. В итоге концептуализация патронажа стала основой для новой интеллектуальной траектории в историографии сталинизма. К 1990‑м годам этот подход репрезентировал советскую историю как серию сменяющих друг друга неотрадиционалистских правлений122. Историки-неотрадиционалисты оценивали Советское государство как альтернативную модерность с множеством практик из традиционных обществ123. Чтобы доказать это утверждение, сторонники данной интерпретации, в отличие от патрон-клиентской концепции, больше уделяли внимание соотношению неформальных практик с нормативными бюрократизированными структурами, которые как раз определялись как типичные свойства модерности.
Ключевой задачей этого направления было выявление роли харизматической власти в институциональном развитии в СССР. Так, Кен Джовитт считал, что советская хозяйственная модель находилась в подчиненном положении по отношению к «харизматически-традиционным чертам ленинистских институтов»124. По мнению ученого, организация и этос советских учреждений отражали тип харизматического лидерства. Больше всего он проявлялся в блате – реципрокных неформальных социальных транзакциях по линии «советские кадры / советские граждане»125. Ватро Мурвар, напротив, полагал, что в Советском Союзе сложился псевдохаризматический образ правителя, сформированный многочисленными контролирующими организациями и средствами коммуникации126. Ученый назвал этот тип правления модерным патримониализмом (modern patrimonialism). С этой точки зрения большевистские вожди не отвечали требованиям харизматического лидерства, а пропаганда и институты искусственно создавали вокруг них культы, служившие выражением «патримониального правления в модерном облачении»127.
Наиболее глубоко эту проблему обозначил историк Джереми Джилл, который утверждал, что партия и советская политическая система являлись патримонией (вотчиной) Сталина. Это сказывалось на слабости организационных/институциональных норм и правил партийной жизни. В теоретической схеме Джилла Сталин исполнял роль политического ментора, выделявшего бенефиции представителям советско-партийных элит/групп взамен на их лояльность и поддержку128. Реальные акторы политического процесса на всех уровнях (партаппаратчики и «семейные группы») использовали формальные институты лишь как инструмент для прикрытия и достижения своих целей. Джилл уделял серьезное значение фактору идеологии культа, который как раз и связывал всю эту властную структуру и позволял преодолеть формальные «бюрократические барьеры»129.
Таким образом, неотрадиционалисты поставили под сомнение значимость советских формальных институтов в политических отношениях. В новой книге корифей патрон-клиентской теории Джон Виллертон указывал, что патронаж процветал на всех уровнях и неформальные механизмы, а не идеология помогали лидеру реализовывать политическую программу. По его мнению, именно «карьерные связи, а не принадлежность к организации» определяли положение человека в обществе130. Однако система действовала «более эффективно», когда неформальные сети «объединяли интересы отдельных лиц, групп, учреждений и секторов»131. В то же время большинство исследователей не считали институты серьезными механизмами в функционировании Советского государства. Ученица Ригби, известный историк Шейла Фицпатрик указывала на то, что даже «бюрократические одолжения» (bureaucratic favors) давались по линии межличностных отношений и частных обязательств132. Йорам Горлицкий приходил к выводу, что в основе сталинской патримониальной системы лежал принцип «строгой личной преданности: представление о том, что чиновник предан правителю, а не своей должности»133. То есть официальные лица просто обходили формальные иерархии путем прямого обращения к вождю.
Следовательно, точно так же, как и в патрон-клиентской модели, неотрадиционалисты не придавали значимости явлениям советской экономики, относившимся к административным отношениям. Этим можно объяснить практически полное игнорирование ими понятий «ведомственность» и «местничество», воспринимавшихся как очевидные формальные бюрократические практики. Основным объектом исследования выступал блат, который рассматривался в качестве определяющего в формировании политического и экономического устройства. На первое место выходили феномены, находившиеся за пределами институциональных рамок, например такие, как «толкачи»134. Джилл давал следующую характеристику патримониализма: «система, в которой исчезает различие между частной собственностью и государственной собственностью, когда лица, занимающие руководящие должности, используют общественные ресурсы, как если бы они были их собственными, и где власть и идентичность учреждения определяются с точки зрения власти и идентичности их руководителя»135. Осознавая необходимость соотношения неформальных и формальных структур, таким определением Джилл полностью нивелировал институциональный фактор в советской системе, заменяя его принципом персонализма.
Однако историки-неотрадиционалисты хоть серьезно упрощали властные отношения в Советском государстве до неформальных связей и практик, тем не менее пытались прояснить взаимосвязанности патронажа и административно-бюрократических иерархий в СССР. Они также обратили внимание на социальные ограничения блата. Так, Мэтью Лено указывал, что обмен взятками и одолжениями имел значение только на уровне особой статусной группы – советской общественности, которая включала бюрократов, активистов, научную и техническую элиту136. Согласно Джеральду Истеру, неформальные личные сетевые связи в сталинском государстве пересекались с «формальными бюрократическими линиями командования»137. Чтобы построить «бюрократическое абсолютистское государство», Сталин должен был через процесс «регионализации» сделать «бюрократической» уже сложившуюся патримониальную «инфраструктурную власть»138. В недавней работе Джилл также признавал, что советские олигархи укоренялись в различные бюрократические иерархии, поскольку это давало им институциональную базу и через нее, собственно, набор интересов139.
То есть для неотрадиционалистов советская политическая система представляла собой неопатримониальный режим с домодерными чертами. Он состоял из ведомственных кланов и клик, отчужденных от масс и воспроизводивших квазирыночные отношения. Верховная политическая власть подчиняла все эти клики, сохраняя за ними лишь право зависимой собственности140. Ярким примером такой неотрадиционалистской собственности выступал ГУЛАГ. Согласно историку Уилсону Беллу, с одной стороны, ГУЛАГ был частью стремления Советского государства к модернизации, но во многих отношениях он укреплял традиционные практики управления. На бумаге ГУЛАГ казался «модерной», высокобюрократизированной организацией, но в реальности в силу нехватки кадров, коррупции и проблем со снабжением администрация и заключенные подстраивали под себя действовавшие нормированные правила. Гулаговская модель воспроизводила спектр домодерных властных отношений: черный рынок, фальсификацию данных, «обмен услугами» (exchanging favours), патронаж и прошения. Ученый считал, что только опора на неформальные сети и личные связи позволяла ГУЛАГу функционировать на низовом уровне день за днем141.
Контекст институциональных изменений в анализе неформальных отношений был особенно учтен в совместных исследованиях Йорама Горлицкого и Олега Хлевнюка. В книге «Холодный мир» авторы также определяли сталинизм как неопатримониальный режим, который воспроизводился в качестве «надведомственной системы принятия решений» (system of supraministerial decision making)142. В недавней своей работе Й. Горлицкий и О. Хлевнюк выявили практики осознанного и вынужденного делегирования власти центром на региональный уровень. Анализируя клиентские политические сети, историки также касались сюжета о ведомствах, которые благодаря хозяйственному значению своих предприятий в выполнении плановых заданий и/или «прямой линии» со Сталиным или Берией становились «хозяевами» отдельных городов и регионов. Такие влиятельные ведомства могли эффективно оспаривать власть «слабых» секретарей (contested autocrat) партийных комитетов в регионах. С одной стороны, в исследовании Горлицкого и Хлевнюка политическая система в СССР была совокупностью сетевых структур. Но, с другой стороны, ученые показали прямую зависимость сетевых взаимодействий партийной элиты от институциональных изменений и союзов – партии, прокуратуры, советских органов власти, силовых и производственных ведомств143.
Таким образом, концептуализация советской политической системы через модель патрон-клиентизма и неотрадиционалистскую интерпретацию реконструировала сплошную архаичную иерархию неформальных отношений. Как правило, анализ практик блата, взяток, кумовства, связей и личной преданности не оставлял места институциональным факторам. В 2000‑х годах такое редуцирование Советского государства к разным вариантам патримониализма начало прерываться попытками исследователей выделить формальные институты в качестве условий и ограничений патрон-клиентских отношений (Джилл, Лено, Истер, Горлицкий, Хлевнюк, Белл). Однако эта группа исследователей в своей аналитике не выходила за пределы архаических черт советской элиты, продолжая смотреть на институциональные механизмы и идентификации как на вторичные и фиктивные элементы советской бюрократии. Исключение составил историк О. Хлевнюк, который еще в середине 1990‑х годов отметил формирование еще одного нового направления в историографии сталинизма.
Ведомственное направлениеИсследовательская позиция, относившая бюрократизм и его аспекты к формальным структурам, имела следствием достаточно долгое восприятие историками-ревизионистами ведомственных отношений в общей рамке вертикальной бюрократизации. Как выше было описано, ситуация стала меняться только к середине 1980‑х годов, когда некоторые ученые посмотрели на советскую систему через призму институционализма. Показательной в этом отношении была статья Шейлы Фицпатрик, проанализировавшая отношение Сталина и Политбюро к советской бюрократии. Доработав концепт своего учителя Ригби о «бюрократической политике», она указывала, что сталинская «система также породила могущественные бюрократические институты с определенным видом корпоративной идентичности и/или уверенного руководства». «Партийные бароны» были аффилированы с государственно-бюрократическими структурами и часто защищали свои «институциональные интересы». Правда, сам «Сталин от них ждал именно этого», поощряя бюрократические конфликты и действуя как арбитр. Тем не менее «коммунистические руководители всегда подвергались жесткой критике за защиту своих „бюрократических интересов“ (vedomstvennye interesy) вместо того, чтобы ставить универсальные интересы партии на первое место»144.
Работа Фицпатрик отразила важный поворот в изучении советского режима. Проблематизируя «корпоративную идентичность», она уловила смещение интереса ряда ученых от больших моделей бюрократизма, групп интересов или патронажа к конкретным связям и отношениям между отдельными институциями и высшими органами государственного управления / вождем / коллективным руководством. Наркомат/ведомство могли рассматриваться как самодостаточные институты, действующие в реалиях советской «бюрократической политики». Этот институционализирующий подход обуславливал прямую артикуляцию феномена ведомственности. С одной стороны, он осмысливал, придерживаясь рамок бюрократизма, советскую историю с позиций отдельных ведомств, а с другой – описывал этот феномен в максимально широкой трактовке. В данной интерпретации департаментализм включал весь спектр горизонтальных и вертикальных взаимодействий партийно-советских и хозяйственно-производственных акторов145.
В 1987 году вышла в свет книга британского историка Эдварда Риса, в которой с позиции такого институционального взгляда разбиралась деятельность Наркомата Рабоче-крестьянской инспекции (НКРКИ, Рабкрин) в 1920–1930‑х годах. Рис писал, что Рабкрин превратился в ключевое надзорное ведомство, выступающее «единственным органом государственного контроля» и созданное как раз с целью преодоления «ужасной ведомственности» (awful departmentalism)146. Для Риса ведомства – это властные ресурсы, а департаментализм в таком случае являлся способностью отдельных наркоматов устанавливать и отстаивать свои собственные внутренние правила в обход государственного контроля в лице Рабкрина. Историк также противопоставлял государственный контроль и противоположный ему внутриведомственный контроль, позволявший реализовывать ведомственные интересы147. С точки зрения Риса, в этой конкретно-исторической реальности государственный интерес приравнивался к интересу одного контрольного ведомства.



